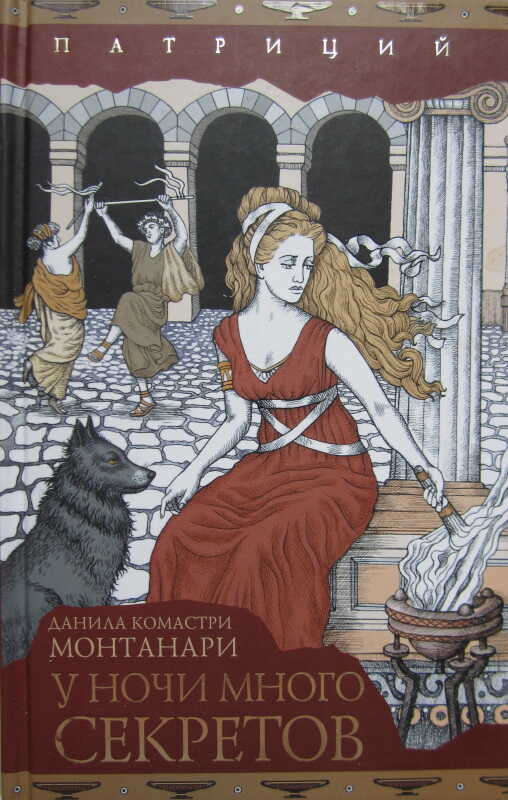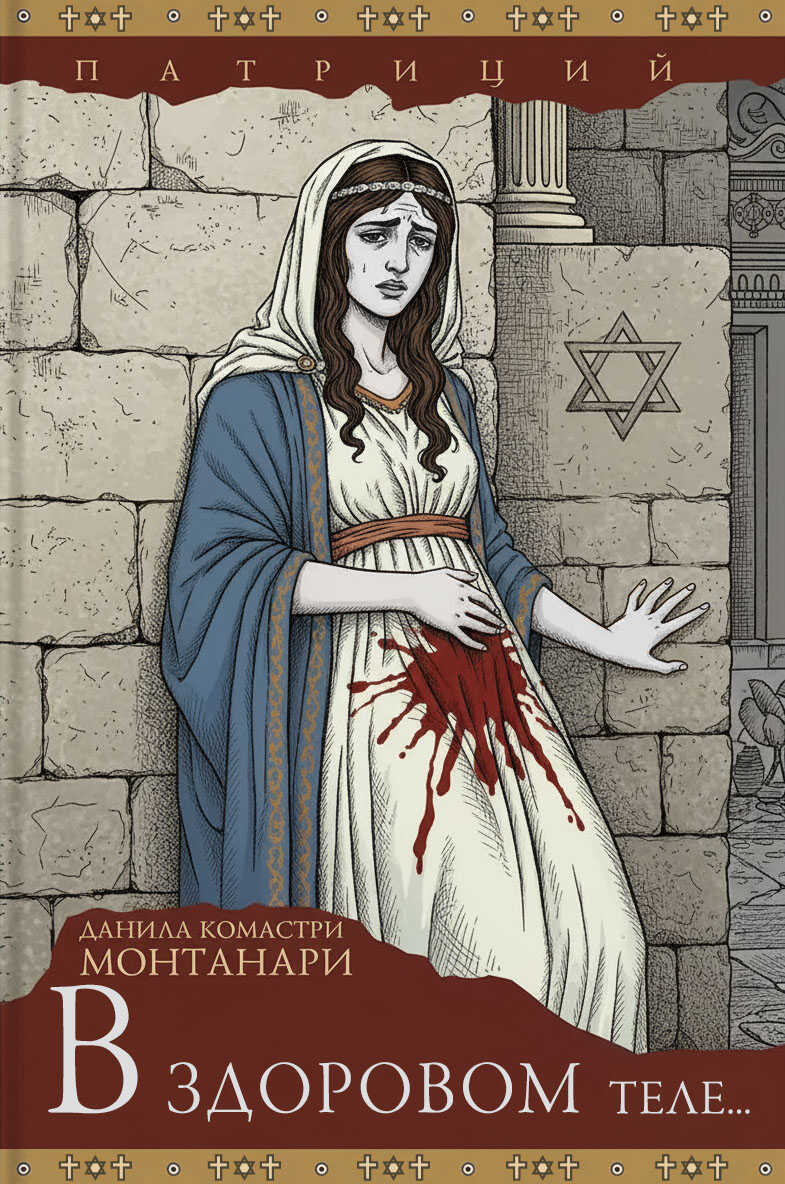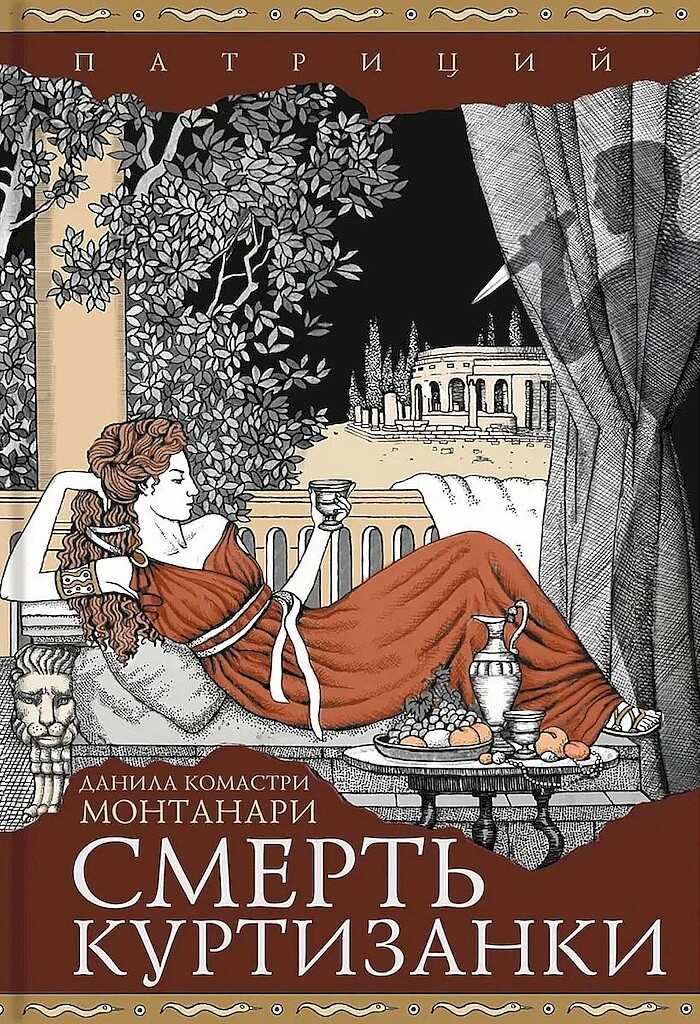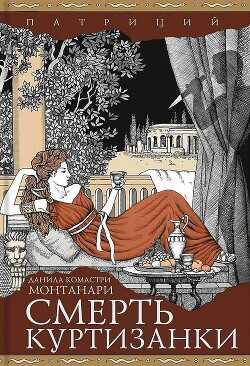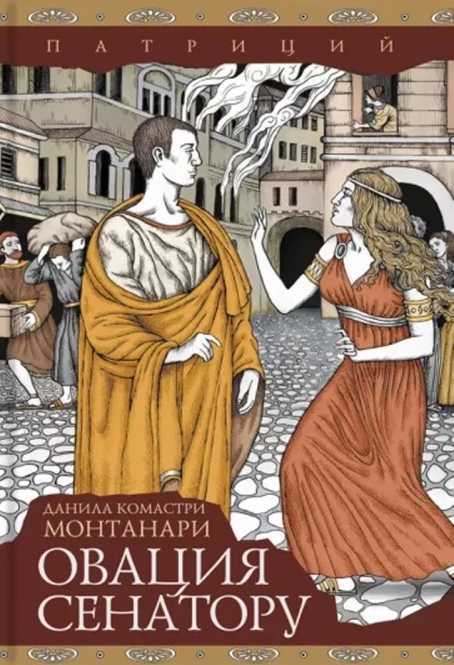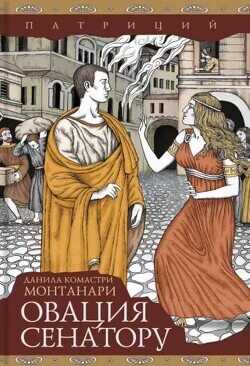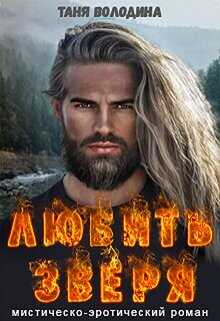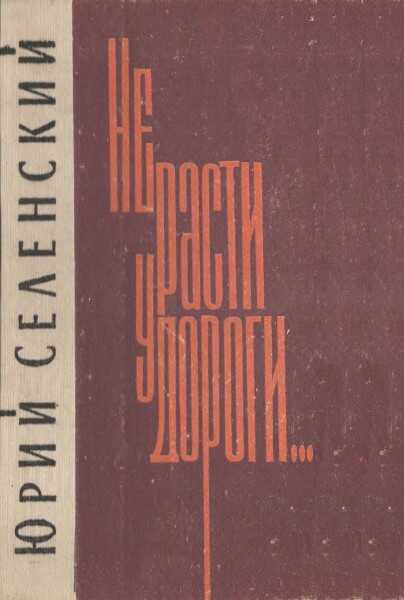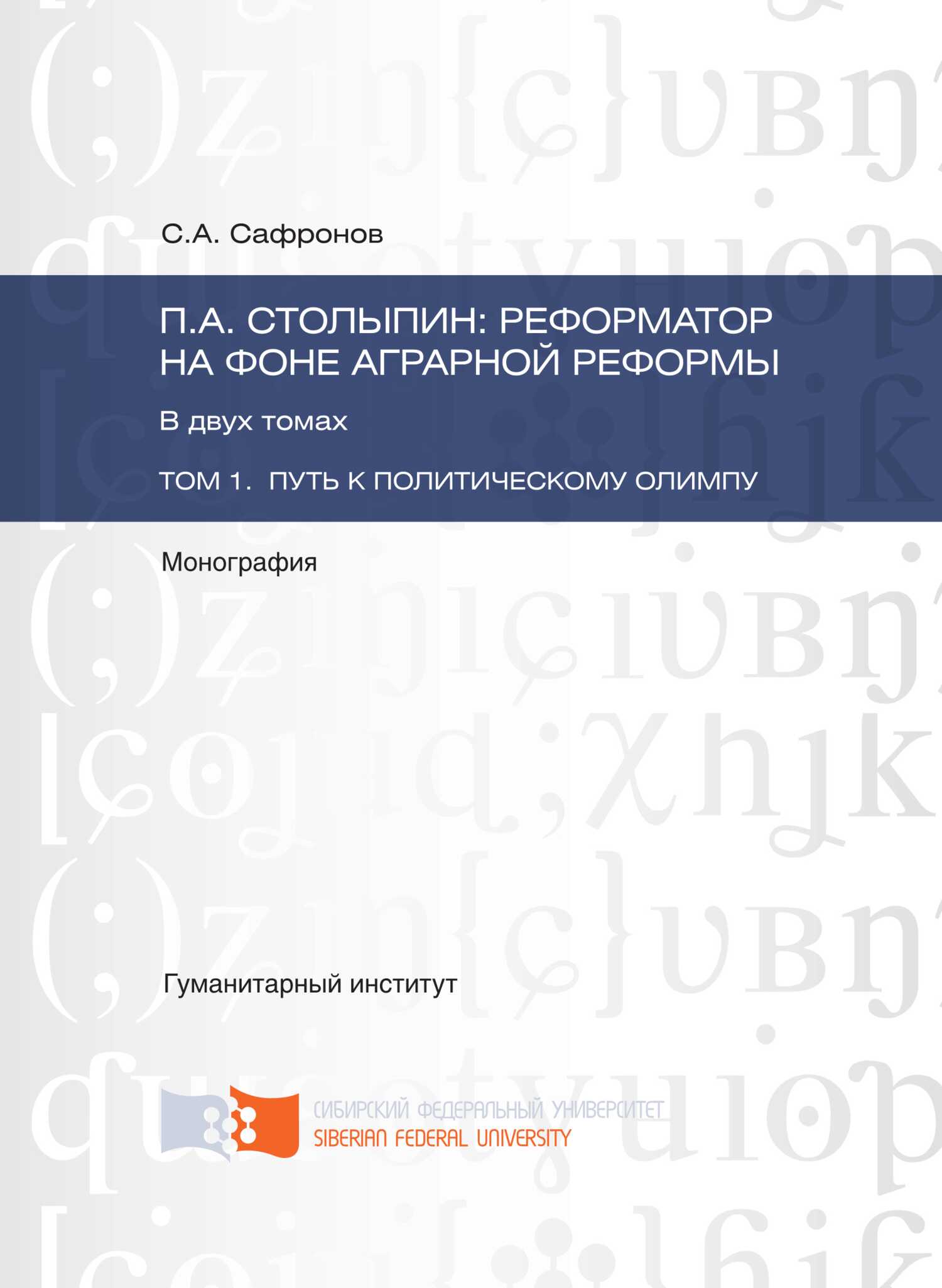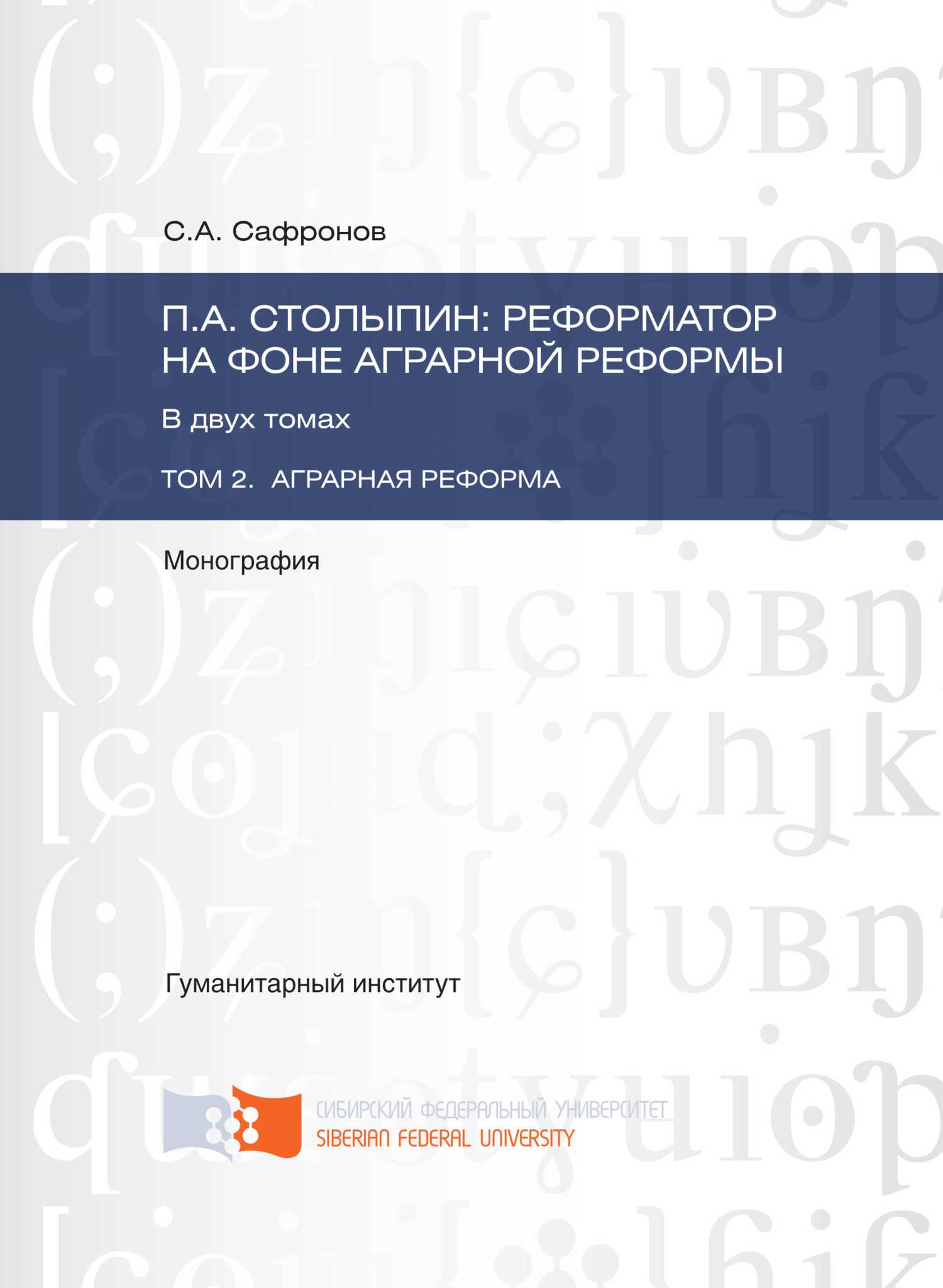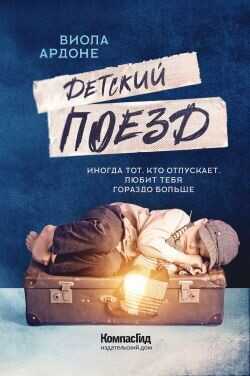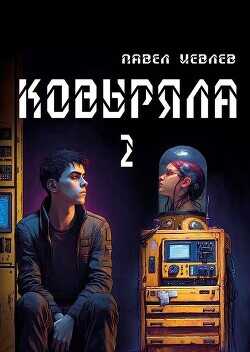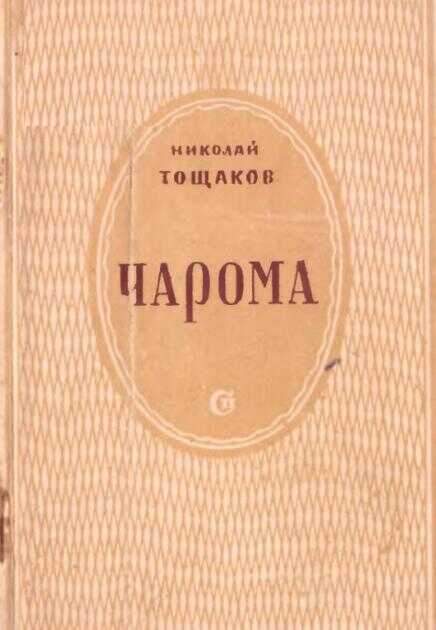Кому выгодно? - Данила Комастри Монтанари
Аврелий сознавал, сколь благосклонна оказалась к нему судьба — ведь он родился римским гражданином, свободным человеком и аристократом, последним из целой плеяды победителей, век за веком увеличивавших число принадлежащих им рабов.
Он понимал, что в этом нет никакой его личной доблести или заслуги, но — справедливый или нет — это был единственный знакомый ему мир, и патриций благодарил слепую фортуну за то, что она оказалась добра к нему.
На долю других выпал не столь счастливый удел: на его землях каждый день рождались десятки рабов и столько же умирало. Каким же количеством людей он владеет в точности? Надо будет спросить Париса…
Между тем слуги, жившие с Аврелием под одной крышей, представляли для него больше чем просто собственность. Патрицию нравилось думать, что они любят его, и он отвечал им снисходительным попустительством. Вряд ли их поведение служило примером железной дисциплины или безупречной честности, но он знал, что в случае необходимости они безоговорочно его поддержат.
Однако насколько глубока эта преданность? Что на самом деле знал он о них, помимо того, что они сами соглашались открыть ему?
Он снова задумался о Модесте. Юноше не было и двадцати лет — весёлый и немного застенчивый, любил играть на флейте. Аврелий вспомнил, как, пойдя навстречу просьбе одной из своих сельских служанок, вызвал его в Рим из городка Пицены, где тот родился.
Прабабушка Модеста, которой исполнилось тогда сто лет — редчайший для рабыни случай, — написала всемогущему хозяину, что служила ему всю жизнь, хотя и ни разу не видела его, и теперь просит позаботиться о своём правнуке. Аврелий ответил тем, что перевёл Модеста с полевых работ на службу в столицу.
Оказавшись ввергнутым в пучину блистательного Города — позолоченного снаружи и ядовитого внутри, — наивный юноша сразу же страстно полюбил его, как человек, который ещё не знал женщины и внезапно встретил богиню.
А Рим, подобно всем женщинам[61], оказался капризным, ветреным, безжалостным и мгновенно вобрал в своё тёмное и горячее чрево юного влюблённого. Где-то он теперь?
Не в силах уснуть, Аврелий неслышно прошёл на половину слуг. В комнате Модеста, которую тот делил с Полидором и Тимоном, никого не было. Его товарищи не смогли спать рядом с пустой кроватью друга и нашли пристанище в другом месте.
В небольшой стенной нише лежал авлос — двойная флейта. Патриций тронул её, спрашивая себя, услышит ли он ещё когда-нибудь игру Модеста. Рядом с инструментом он увидел написанные рукой юноши ноты, испещрённые греческими буквами, которые указывали тональность и темп, и ещё какие-то пометки на полях.
Модест начал заниматься музыкой, как только приехал в город, причём с гораздо большим усердием, чем грамматикой или орфографией.
И действительно, просматривая заметки, сенатор обратил внимание на то, что некоторые дифтонги написаны неверно, а во фразе «В храме на Квиринальском холме» пропущено окончание в последнем слове…
Аврелий вздрогнул — он вдруг понял, что эти слова обозначали место встречи.
— Проснись! — воскликнул он, влетев в комнату Кастора. — Я знаю, где Модест!
И спустя несколько минут они неслышно проскользнули мимо спящего Фабеллия.
На улице стоял собачий холод. Храм находился не очень далеко, но улицы огромного города, раскинувшегося на семи холмах, представляли собой сплошную череду подъёмов и спусков, так что на Квиринальский холм им пришлось взбираться лишь после того, как бегом спустились с холма Ви-минальского.
Патриций не раз спрашивал себя, почему бог, покровитель Рима, этот Ромул Квирин, в храм которого они направлялись, не выбрал какое-нибудь другое, более пологое место, задумав основать вечный город.
Запыхавшись, поднялись они на самую вершину холма. Священной ограде храма было уже три столетия. Но само здание было полностью перестроено во времена Августа, и от первоначального вида на фасаде осталась только памятная доска о Луции Папирии Курсоре[62]. Возле неё Аврелий и Кастор остановились, не зная, что делать дальше.
— Даже если он был здесь, то отсюда мог отправиться куда угодно: к храму Салюс[63], на холм Пинций, на Альта Семиту[64], — предположил секретарь.
— За нами городская стена, он не мог её пересечь, — заметил патриций.
— Почему нет? В Риме больше ворот, чем городских стен! — возразил вольноотпущенник. — С тех пор как Город господствует над миром, мощные оплоты, возведённые Сервием Туллием, оказались совершенно ненужными, потому что враги — те немногочисленные, что ещё оставались, — находились в далёких лесах на севере или на самых дальних восточных окраинах. Зато ни один амбициозный политик никогда не отказывался от искушения прервать эту монотонную линию из красного кирпича, превратившуюся в прибежище для влюблённых и бродячих котов, чтобы возвести красивую мраморную арку со своим именем, высеченным золотыми буквами, на память потомкам.
— Осмотрим хотя бы ту часть, что у нас за спиной, — за воротами, — сказал сенатор, зажигая факел и направляясь к заброшенному бастиону.
— Эй, вы двое! Что вы тут делаете с зажжённым факелом? — услышали они возглас в темноте. — Не знаете разве, что строго запрещено зажигать огонь в лесу?
— О Геракл! Стража! — рассердился Аврелий.
Отряд ночной стражи, созданной для охраны Города от злоумышленников и пожаров, обязан был тотчас арестовать любого человека, заподозренного в пиромании.
Патриций невольно стал искать свой перстень с печаткой, при виде которого стража тотчас рассыпалась бы в извинениях.
— О боги, я оставил его дома, в спальне! — с огорчением обнаружил он.
Стража обычно действовала быстро и решительно, и прежде чем разберутся, кто он такой, сенатора могли продержать в караулке несколько часов, а то и дней.
Внезапно Кастор по-дружески обнял Аврелия за плечи.
— Прости нас, офицер, мы сейчас же погасим свет! — заверил он каким-то игривым тоном, который не понравился сенатору.
— Хм… Не моё дело, конечно, читать морали… Я бы понял, если речь шла о мальчике, но это же взрослый мужчина и, наверное, даже римский гражданин! — с явным неодобрением заметил страж.
— Но он совершеннолетний. И закон не нарушает, — улыбнулся Кастор и, подойдя ближе, что-то шепнул ему на ухо. Аврелий, слишком удивлённый, чтобы как-то реагировать, попытался услышать, о чём идёт речь, спрашивая себя, не лучше ли провести несколько ночей за решёткой, чем прибегать к сомнительным уловкам.
— Ну, в таком случае… Главное, чтобы он не потребовал поменяться ролями! — засмеялись стражники, удаляясь.
— Всё в порядке! — сказал грек, возвращаясь к Аврелию.
— Что ты ему сказал? — недовольно спросил патриций.
— Правду, патрон, — ответил Кастор. — То есть что ты —