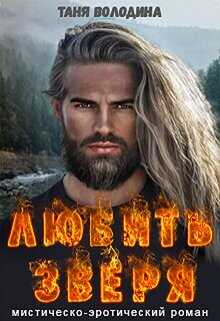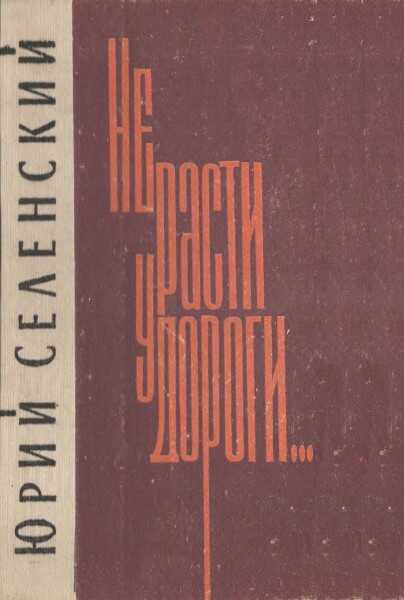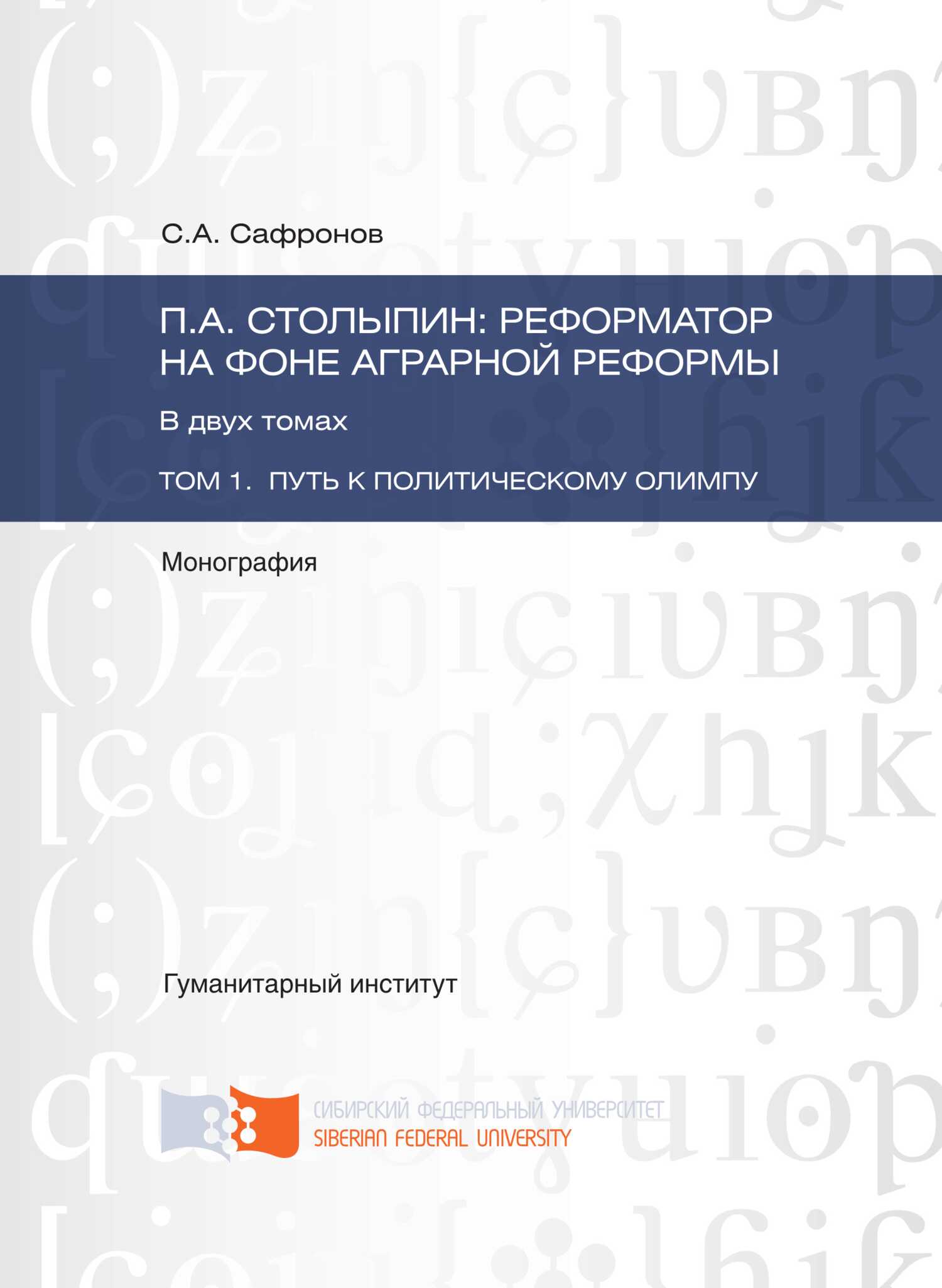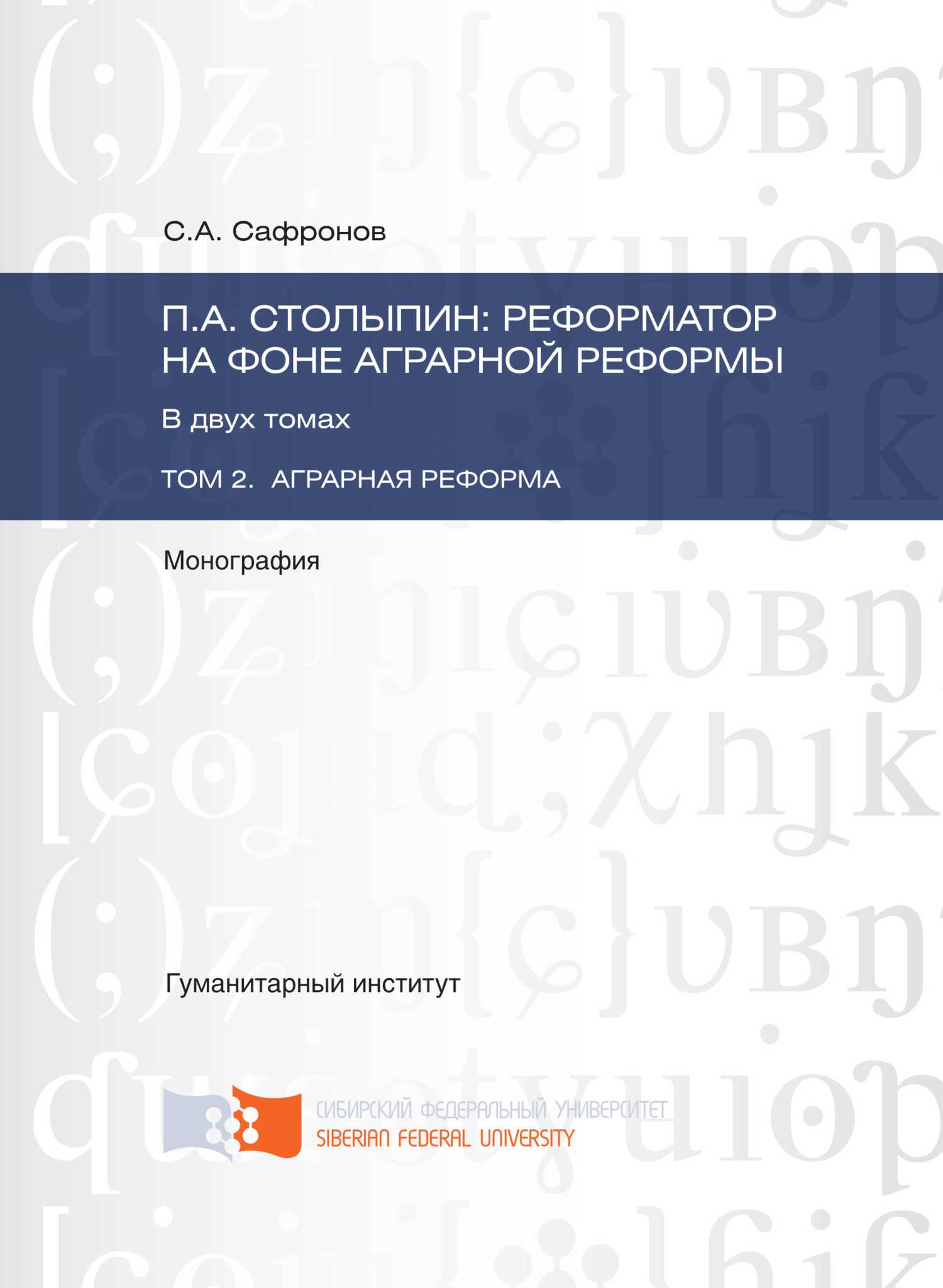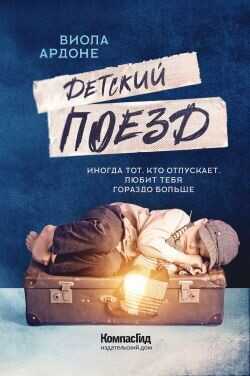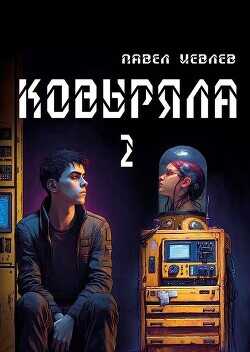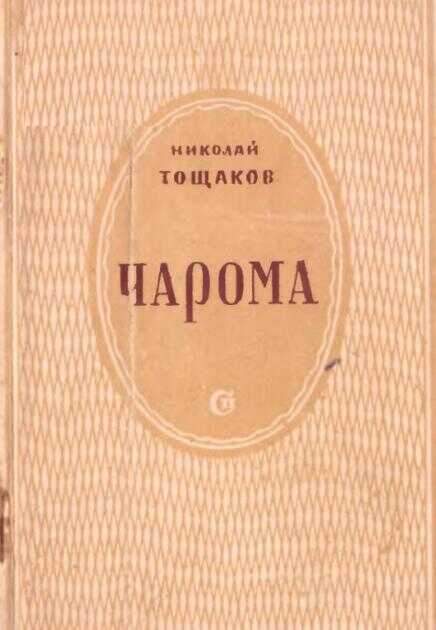Чарома - Николай Аркадьевич Тощаков
— Ну, всего никто не знает, — с трудом вздохнул Африкан.
— Мне жена тоже отписывала, — вставил Никифор. — Слышал про твое горе.
— Больше году тому назад… Мы за Днепром стояли. Дочка написала. На фронте как-то меньше чувствовал ее смерть. А теперь вот подхожу домой, думаю, как же так?.. Уходил — была, а приду — нет… Одни ребятишки маются. — Он замолчал, теребя корку хлеба большими красными пальцами.
— Не вернешь… чего уж… Женишься, Африкан, — произнес Никифор, нарушая молчание. — Сам понимаешь, такое время. У кого брат, у кого зять, отец, сын. Жениться надо… чего уж.
— Придется, — хрипло выговорил Африкан. — Так не проживешь — трое ребятишек, сам не старый.
Он потер ладонью лоб, сглаживая морщины.
— Ведь теперь что? — хмуро сказал он. — Иди к какой-нибудь вдове. У меня, мол, нет жены, а у тебя — мужа, давай жить вместе… Разве найдешь такую, как Надежда… На Украине встретил я одну женщину… Не помню в Зеленом Гае или Рогачеке? Вот за ней бы поехал. Да разве такая залежится, давно, поди, замужем… А уж какая это жизнь без любви?..
— Любовь? — усмехнулся Никифор. — Не те годы, не та кровь. За тридевять земель за бабой ехать… Подберешь здесь хорошую женщину.
— Не та кровь?! Не скажи, — перебил его Африкан. — У меня Надька взглянет только — горы сворочу… Работалось легко. Как настеганный весь день бегаешь. И все то нравится, веселит… Любовь?! Любовь — половина жизни. Без любви ежели сойдусь, как вареный по земле ходить буду… Свет не мил.
— Полно, Африкан… Успокоишься, время свое сделает… Привыкнешь и к другой женщине… Особенно, если с твоими ребятами будет хорошо обходиться… Тихо, скромненько заживете… Мы уж не молодые, нам не до любви, — заметил Никифор.
— Нет, нет! Любовь это до конца жизни, — продолжал Африкан. — На фронте много об этом говорили. Соскучатся ребята о женах, начнут о любви говорить… У нас в артиллерии народ ученый все был… Один командир орудия нашей батареи был, у меня — первое, у него — второе, рядом всегда стояли. Два года с ним вместе воевали да в учебном около года жили. Мужик был толковый, — из учителей. Он мне голову на место поставил… Вот какой мужик был! Так он сказал, о любви больше всего книг написано. Есть, — говорит, — книги в тыщу страниц, — и все о любви… А ты, говоришь, любви нет, только привычка. Зря бы не писали, да и читать никто бы не стал, если бы любви не было.
— И песенки-то все о любви, — добавил Алеша.
— Дедко и то понимает, что такое любовь, а ты споришь, — сказал Африкан Никифору.
— Смешно сказать, — ухмыльнулся Алеша, покуривая цыгарку. — Из-за любви у меня жизнь не удалась, бобылем прожил…
Он рассказал, что в молодости любил Лушу из Погорелова. Но двор его был беден, родители не отдали. Она покорилась, вышла замуж. Алеша полюбить другую не мог, остался холостым. И жила Луша хорошо, муж работяга, восьмеро детей было. Алеша не разлюбил и радовался Лушиной жизни. Но дома ни на что смотреть не хотелось, руки от всего отвалились. Нынче муж ее умер.
— Идет недавно Лукерья Степановна мимо меня, — продолжал старик, — старая, престарая… Я дрова у крыльца рубил. Остановилась. Она и в девках занятная была… «Что, — говорит, — Алеша, сватов не шлешь, я теперь вдовая, свободная…» Посмеялись оба.
— Сплоховал, Алеша, — серьезно сказал Африкан. — В любви зевать нельзя, как раз на бобах останешься.
— Спохватился, да поздно, — с грустью ответил Алеша.
— Будет вам, ребята, — с усмешкой проговорил Никифор. — Слушаю — смех берет. В восемнадцать лет хороши эти разговоры.
III
Африкан задумчиво смотрел на догорающие в печке поленья. Он безмолвно указал на потухающий огонь Никифору, сидевшему ближе к печке, тот подложил дров. Алеша захмелел, его клонило ко сну. Но вдруг его лицо осветилось тихой улыбкой.
— «Ах, да одна, ах да одна во поле дороженька пролегала», — вздохнул он, и гармонь тоже вздохнула грустным аккордом.
— «Частым ельничком, частым ельничком, белым березником она заростала, молодым, горьким осинничком ее заломало…»
Пел Алеша слабым старческим голосом, шепелявил. Но его тонкий слух улавливал в каждом слове песни такую интонацию, которая только одна и передавала вложенное в что слово чувство.
— «Нельзя, нельзя-то мне к любушке-голубушке в гости ехать…»
И от горькой потери любимой сжалось сердце Африкана — не увидит он больше своей жены. И Никифор вспомнил, как не раз на военных дорогах тосковал по своей спокойной, работящей Анне, не раз думал — заросли дорожки до дома, возврата нет с полей битвы…
Алеша кончил петь.
— Большая сила в песне… — глухо проговорил Африкан после долгого молчания. — Капитан у нас был, командир дивизиона. Вот пел! Вроде тебя, Алеша. Не сильно, но выразительно. Мурашки по спине ходили. Любил он песню:
Может быть, на этом полустанке
Разгорится небывалый бой.
Потеряю я свою кубанку
Со своею буйной головой, —
пропел Африкан хриплым голосом.
— Не умею петь, — продолжал он. — Никак не выходит. Плясать умею, а петь — никак. Так вот, как выведет: «Разгорится небывалый бой»… Потом тихо, шопотом, одними, губами: «Потеряю я свою кубанку»… Слушать невозможно… Люди из ровиков выйдут, потихоньку стоят кругом него, слушают… А он на пенечке сидит, покачивается, поет. Ни на кого не взглянет… Стоишь около него, не шелохнешься. Поет он. И вдруг перед твоими глазами озеро наше выплывает… У меня всегда, как музыка играет или песни поют, своя жизнь мерещится перед глазами, либо свои места… Большая дорога. Поля, кустики всякие… Солнце вздымается… Трава, покос… Мужики, бабы… И все это стоит перед тобой, пока он поет… Перестал — смотришь — лес незнакомый, из окопов пушки торчат в небо… Нарыто, нагажено… Люди небритые, злые, три ночи не спали… Ах ты, думаешь, вражина окаянный, довел до чего! По доту… гранатой… Огонь!.. Огонь!.. Вот она, песня.
Африкан неожиданно схватился за вещевой мешок на лавке. Вскочил с места.
— Нагрелся, Никифор?.. Побежали! Два часа отсидели… Пора домой!
— Может, еще по чашечке?.. У меня ведь тоже есть, — сказал Никифор.
— Нет, не хочу… Налей, вон, Алеше. Пусть перед чашечкой посидит, поиграет…
— Вот уж ты меня старого понимаешь, Африша, — сказал Алеша, принимая от Никифора чашку с водкой и ставя ее осторожно на средину стола.
— Прощай, Алеша! — крикнул уже в дверях Африкан.
Они вышли на улицу. Из избы неслось залихватское веселое пение, гармонь вторила:
Из-под горочки виднеется —
Девчоночка идет,
Она полное ведерочко
На чай воды