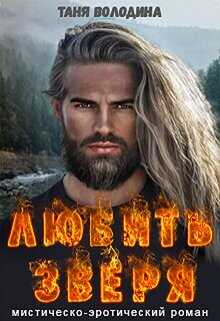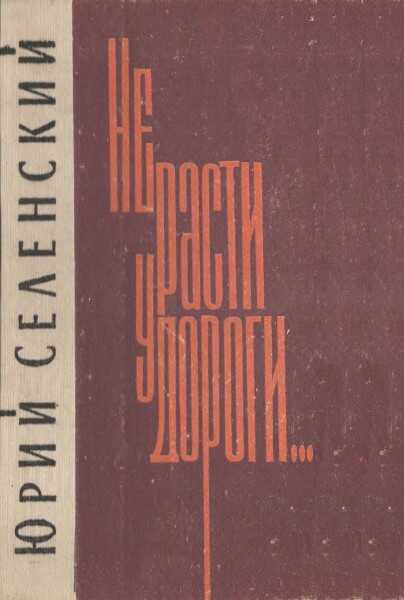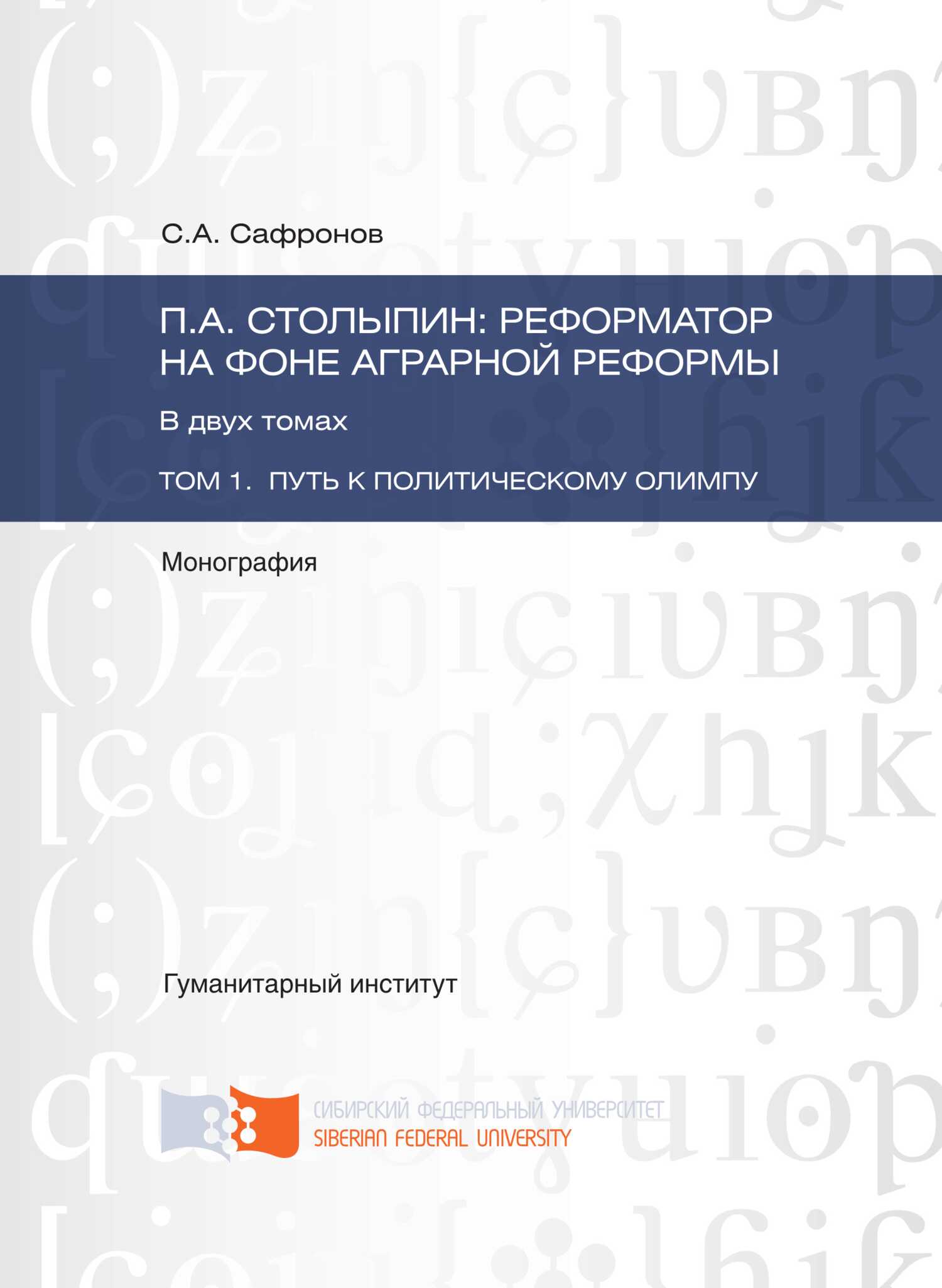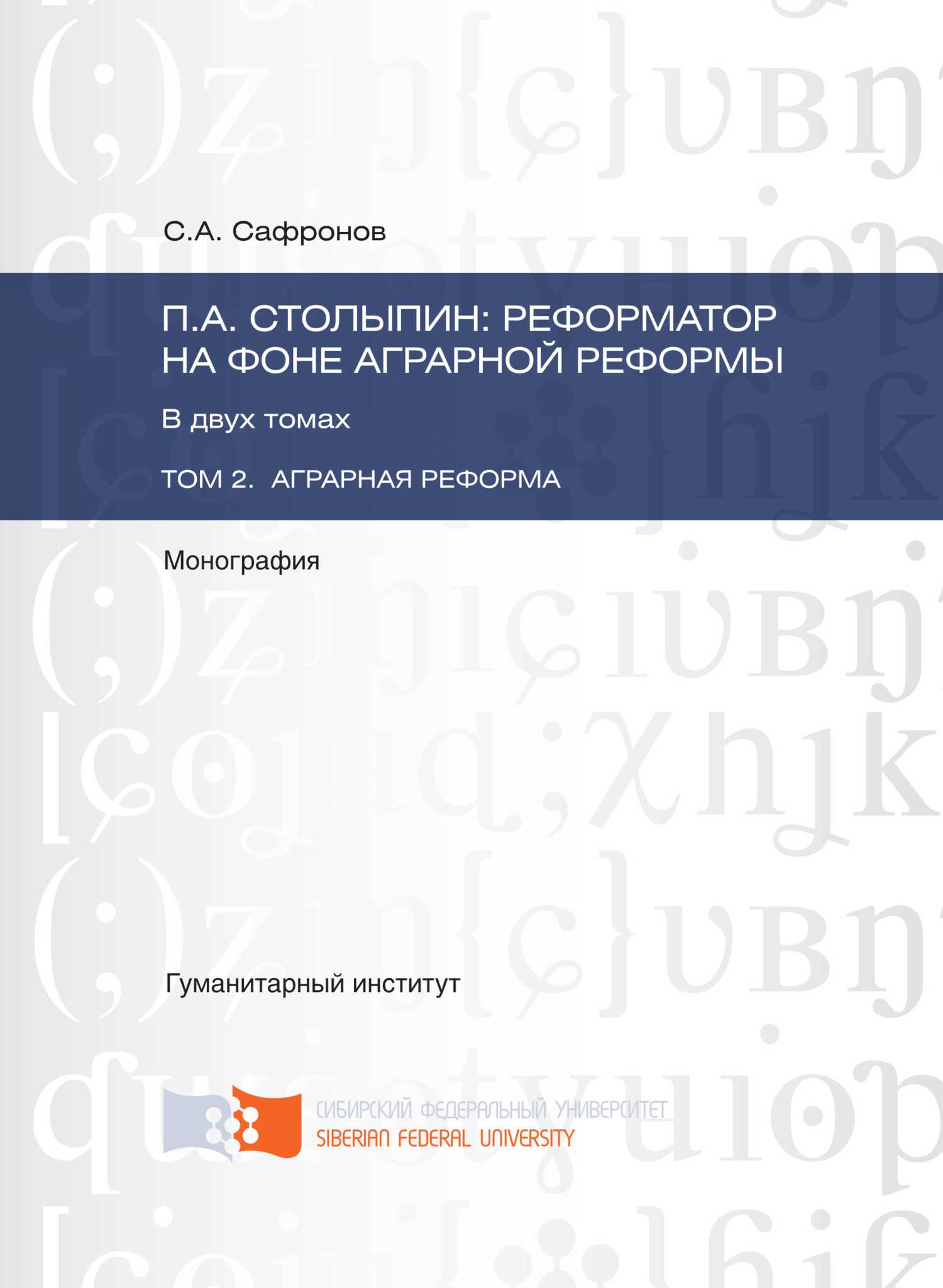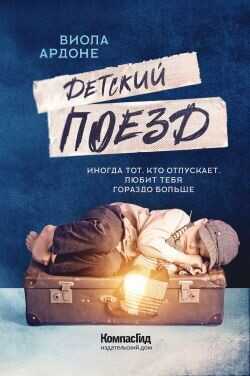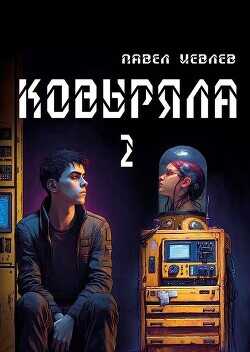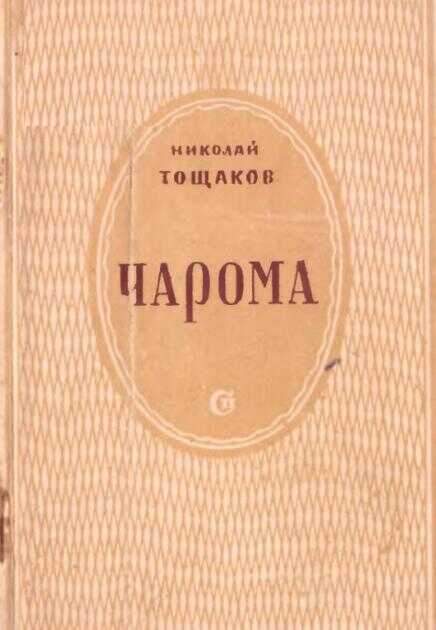Чарома - Николай Аркадьевич Тощаков
— Смотри-ка! Зайчишка! Карабинчик бы сейчас! — заметил Африкан.
Заяц выбежал на дорогу, остановился, сел на задние лапы, повертел большими ушами, помчался к болоту.
— Не робкий какой! — сказал Африкан, провожая глазами зайца.
— Примета нехорошая, — покачал головой Никифор.
— Что ты! Всю Европу исколесил, а зайцев боишься. Заяц по своему делу бежит, в болоте кустики поглодать.
— Приметы не я выдумал, — народ.
— Старухи — тоже народ! Иди за мной! Пусть на меня беда ляжет, — выдвинулся вперед Африкан.
Он перешел заячий след, указывая на него, сказал:
— Ну, переходи Рубикон!
— Какой еще Рубикон? — спросил Никифор, перешагивая след зайца.
— Это один сержант у нас говорил. Как реку форсируем, так и скажет: Рубикон перейден, назад оглядываться нечего… Давно это было. Один римский царь перешел с армией реку Рубикон, да и сказал так. С тех пор и пошло… Да ты шагай побыстрее! С тобой зябнуть стал. Строевой выправочки, вижу, не нажил? — пристально, как служака-сержант на солдата своего отделения, взглянул Африкан на друга.
— Понадобится тебе строевая в колхозе! — ответил равнодушно Никифор. — Вот заболел я, парень, — сказал он со вздохом. — Еле дышу… озноб. На грузовике, должно, прохватило, как ехал из города.
— Озноб! — засмеялся Африкан. — По-пластунски метров двести проползи — рукой снимет. Живо вспотеешь.
— Спасибо, — отказался Никифор. — Слава богу, надо мной начальства теперь нет, чтоб по-пластунски заставлять ползать. Отползал, хватит.
Они входили в Евлашево, большую деревню, в два ряда домов вдоль дороги.
— Зайдем в избу, согреешься.
— Может, дойдем… Три километра осталось, — ответил Никифор, поеживаясь.
— Нет, нет! — запротестовал Африкан. — Обязательно согрейся… Что ты?! Молчал долго. В Песошном бы еще надо было зайти.
— Думал, согреюсь. К кому зайдем?
— В Евлашеве? — удивился Африкан. — К Алеше Потанину, друг-приятель. Эх, ты, нестроевая команда, замерз на марше.
II
Они остановились около старого покривившегося дома. Окна были не освещены, в них недоставало нескольких стекол, их заменяли грязные ветошки, выпиравшие горбом наружу. Соломенная крыша сползла, готовая обрушиться вместе с навалами снега.
Отряхнув на низеньком крылечке снег с сапог, Африкан дернул веревочку от щеколды. Разыскал в сенях скобу, раскрыл дверь в избу. В избе было темно.
— Алеша! Дома? — окликнул Африкан.
— Здесь, — раздался сверху старческий голос — На печке лежу.
— Вставай скорей! Зажигай свет! На пять минут зашли. Домой торопимся, да, вон, Никифор замерз.
— Афришка, ты, что ли? — спросил, не удивившись, старик, которого все звали Алешей.
— Я! Давай, скорей, скорей… Слезай!
— Сети у меня тут не оборвите… Да печку железную не сроните, — предупредил Алеша.
— Ладно, стоим, не шевелимся.
Алеша легко спустился с печки по приступкам, чиркнул спичкой, зажег висячую лампу, осветив большую избу с двумя лавками и столом в углу. Около стола на лавке лежали сети, валялись деревянные иглы с пузатой навивкой ниток. Между столом и дверью, ближе к стене, — железная печка, перед ней охапка лучины и дров, трубы по потолку опоясали всю избу.
Алеша — высокий сухой старик лет семидесяти, в линялой ситцевой рубахе под легким овчинным полушубком, щурясь от света, смотрел на пришедших.
— Здравствуй, Алеша! — Африкан прошел к столу, сбросил с плеч вещевой мешок, отодвинул в сторону сеть, сел на лавку.
Алеша смотрел на него. Свет падал на бритое, грубое, красное лицо с длинным носом, с добродушным и вместе с тем чуть презрительным выражением прищуренных лучистых глаз, на плотно сжатые губы Африкана.
— Что уставился, старый хрен? — сказал Африкан. — На мне узоров нету.
— Ох, и постарел ты, Афришка!
— А я думаю, мне все еще восемнадцать, — сказал Африкан, расстегивая крючок воротника шинели.
— Сколько же тебе?
— Тридцать восемь.
— Время-то… Давно ли по посиделкам тебя возил? А вот уж лет двадцать, поди, и прошло. — Алеша зевнул, разгладил жидкую седую бородку, полез в карман за кисетом. — Время, время — того гляди умирать пора.
— А ты не болтай попустому, — остановил его Африкан. — Потом покуришь. Топи печку! Вишь, Никифор замерз. Тащи чашки, капусты либо огурцов. Первый раз что ли?.. Скорей, скорей, пошевеливайся!
— Вот еще командир! Покрикивает! Привык, что ли? — с насмешкой спросил Алеша.
— Отвыкать надо, — заметил Никифор, севший к другому углу стола. — Все командиры, кто работать в колхозе будет?
— Ну вас к чорту! Сам себе буду командовать. Топи, Алеша, а то убегу, домой тороплюсь, — сказал Африкан с досадой.
Алеша наклонился к печке. Сухая лучина вспыхнула, дрова занялись. По трубам понесся легкий треск, в избе стало тепло. Алеша был легкий старик, он живо бегал по избе на своих длинных сухих ножках в больших валенках. На столе появились чашки, миска кислой капусты.
— Ну вот и все приготовления. Много ли нам надо. Садись! — сказал Африкан.
Алеша придвинул табурет, сел.
— Поездили мы, брат, с тобой, — сказал ему ласково Африкан. — Ни одной веселой не пропускали: не было удержу, далеко ли, метель ли?.. Запрягай, Алеша, поехали!
— Любил молодых ребят по посиделкам возить… Сам не старел…
— Как жил-то?
— Хорошо, — беззаботно ответил Алеша. — У нас ведь здесь фронтовая дорога была. Прознали — изба не запирается, повалил народ. Каждый день полно. Утром проснешься, с печки смотришь, — человек двадцать на полу спит. Шоферишки — как к себе домой. Машину — в проулок, сами — ко мне. Дров привезут, керосину… Хлеб, соль, табак — все было. Напоят, накормят… На гармони играл, песни пел. Веселил народ, и самому весело было.
— Веселил народ… Это большое дело.
Африкан достал из вещевого мешка бутылку с водкой, розлил по чашкам. Никифор нарезал хлеб.
— Пей! — сказал Африкан Алеше. — Да сыграй нам нашу веселую…
Алеша выпил, проворно поднялся с табурета, достал с полки над лавкой старую, с цветными заплатами на мехах, двухрядную гармонь. Сухие, цепкие пальцы забегали по клавишам ловко и быстро, лицо Алеши озарилось. Пальцы пробегали по клавишам старой гармони залихватскими переборами, вихрем проносились отчаянные веселые голоса. Алеша вскидывал вверх свою голову с седыми взлохмаченными волосами, опускал ее к гармони, прислушиваясь к звукам, и лицо его каждое мгновение менялось.
Звуки разбудили в Африкане воспоминания о давно прошедшем. Вот он белоголовым мальчишкой ловит решетом пескарей на речке. Боронит, отец шагает с лукошком, рассеивает зерно. Косит ранним утром в Подболотье. Вот парнем идет по деревне в праздник, на нем яркая рубаха, широкий пояс с длинными кистями, сапоги блестят, суконный пиджак… Идут гурьбой девки, поют песни… И среди них его Надежда… Увидев его, она оставляет подруг, бежит к нему…
Африкан положил свою тяжелую ладонь на гармонь. Алеша перестал играть.
— А ведь Наденька-то у меня умерла, Алеша, — тяжело сказал Африкан.