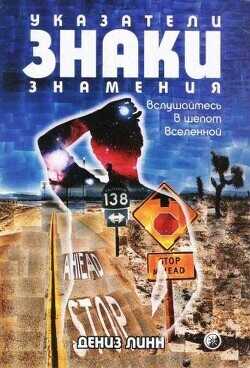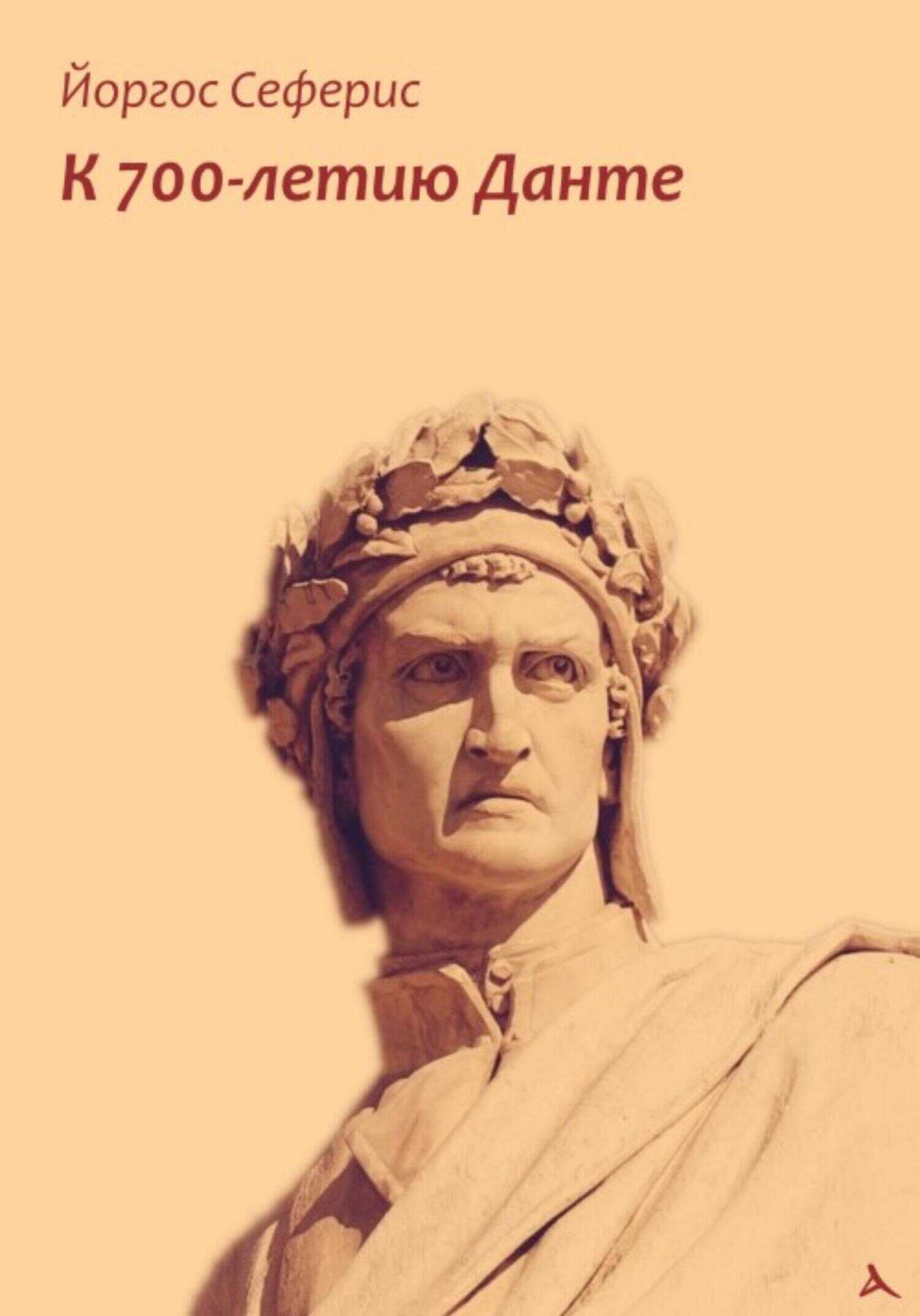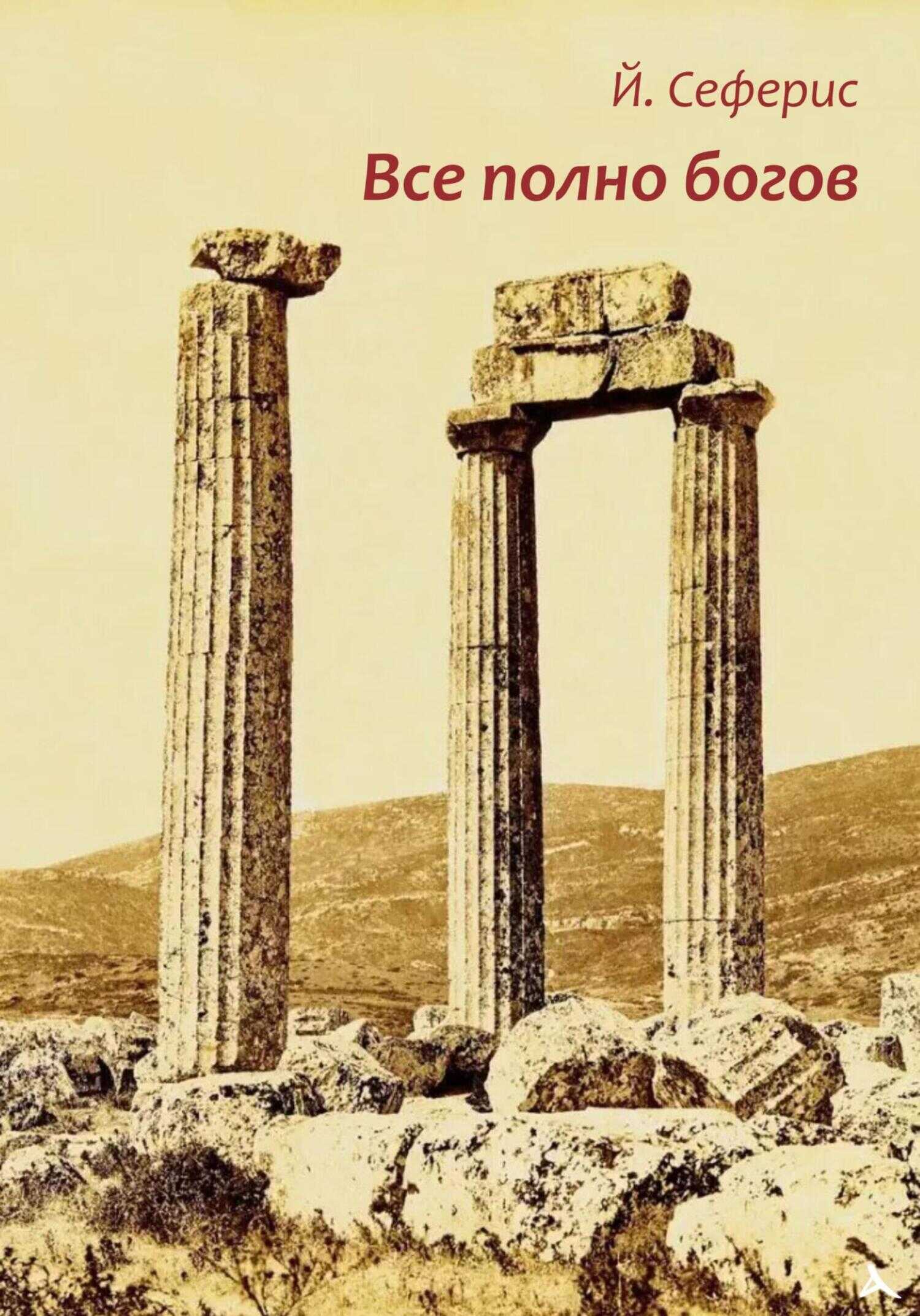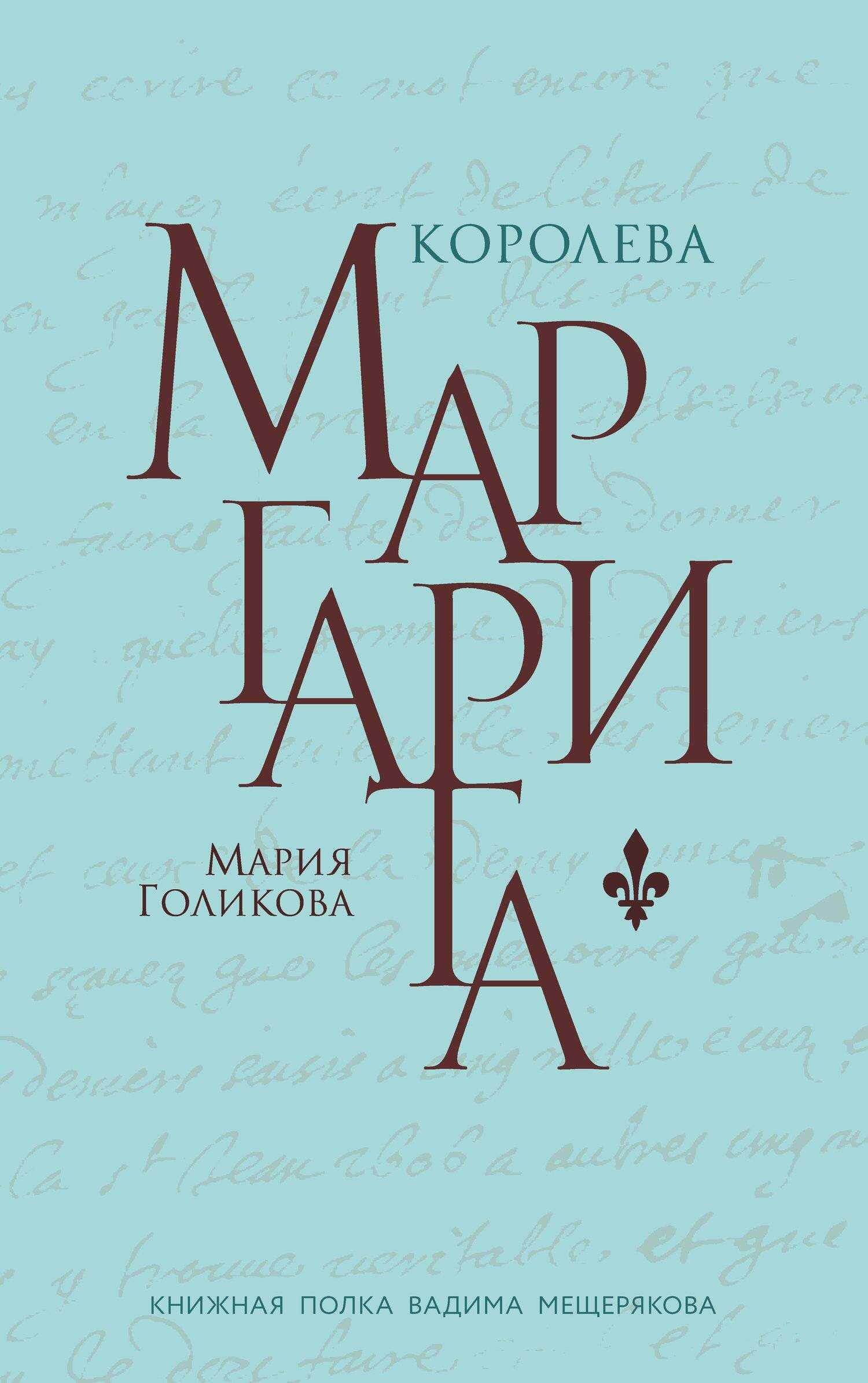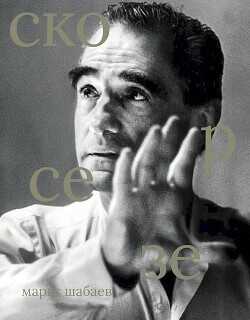Делом займись - Ольга Усачева
А потом… потом открылось самое большое чудо. Небольшой дискомфорт сменился странным, теплым, нарастающим ощущением приятности. Оно шло из глубины, разливалось по всему телу, заставляло пальцы ног непроизвольно сжиматься, а дыхание – сбиваться. Это было настолько неожиданно, так противоречило всему ее прежнему опыту, что она вскрикнула – коротко, удивленно. Не от боли, а от потрясения. «Разве так бывает?» – пронеслось в голове. Она думала, что с ней что-то не так, что она не способна на это, «фригидная», как буркнул как-то пьяный Василий. А оказалось…
Петр услышал ее стон, замер, испуганно глянув на нее.
– Что? Я сделал больно? – его голос был полон тревоги.
– Нет… – выдохнула она, и сама удивилась хриплому, незнакомому тембру своего голоса. – Нет… все хорошо.
И чтобы доказать это, она сама, впервые в жизни, сделала движение навстречу. Обняла его за шею, прижалась к его плечу, позволила волнам этого нового, удивительного чувства накрыть ее с головой. Это было не обжигающее пламя, а спокойная, целительная волна. Она смывала грязь прошлого, стирала память о грубых руках покойного мужа, о боли и унижении. Каждое осторожное движение Петра, каждый сдержанный вздох строили на руинах ее старой жизни что-то новое, прочное и настоящее.
Потом они лежали рядышком в темноте, и Петр по-прежнему держал ее, прижимая к себе, будто боясь отпустить. Его дыхание у ее уха было ровным и горячим. Мария прислушивалась к стуку его сердца – сильному, неторопливому, и к своему собственному, которое постепенно успокаивалось.
– Спи, – прошептал он, и его губы коснулись ее виска.
И она заснула. Не как всегда – чутко, поджав колени к груди, готовая вскочить. А глубоко, спокойно, уткнувшись лицом в его плечо, утонув в его тепле и запахе. Это был сон без снов. Сон полного, абсолютного исцеления. Она была целой. Она была любимой. Она была – его.
Глава 12. (Петр) Цельность
После той ночи мир раскололся на два измерения. Ночь – новый, незнакомый континент, который они открывали вместе. С робкой жадностью, они не могли насытиться друг другом. Тело Марии оказалось удивительно мягким, податливым и отзывчивым. А ее тишина в темноте была не пустой, а глубокой, как колодец, в который Петр погружался и находил там прохладу и покой.
Днем же они возвращались к привычному хозяйственному ритму, но этот ритм теперь звучал эхом ночи. Они стали единым организмом. Петр чувствовал, что думает за двоих, предугадывая, где ей понадобится помощь, а она, кажется, читала его мысли, принося нужный инструмент, ставя на стол именно ту еду, о которой он только мечтал. Они дышали одним воздухом – запахом скотины, свежескошенной травы и вечернего дыма.
В этом сладком дурмане ночей и ясности дней прошел август. Пришла пора главной ежегодной страды – копать картошку. Тяжелейший труд, каторга для спины и рук, который раньше Петр переносил как неизбежную повинность.
Все началось на рассвете, когда трава была еще в серебристой росе. Петр шел первым с лопатой, втыкая ее с глухим стуком под куст, переворачивая пласт земли. И тут же, как его тень, появлялась Мария. Она опускалась на корточки и начинала быстро, ловко обирать клубни, сбрасывая их в ведро. Ее движения были отработаны до автоматизма, но теперь в них не было унылой обреченности, а была ты же сосредоточенная легкость, с которой она вышивала.
– Глянь-ка, – говорила она, поднимая картофелину размером с его кулак. – Какая большая.
– Первый год такой урожай, – отозвался он, и в голосе слышалась гордость за их совместный летний труд.
Они работали молча, но это молчание было приятным. Ритм лопаты и шелест картофельной ботвы сливались в общую симфонию труда. Когда солнце поднялось выше и стало припекать, Петр, вспотевший, скинул рубаху. А Мария, поймав его взгляд, вдруг улыбнулась и, сделав вид, что отмахивает комара, провела ладонью по его мокрому плечу. Жест был простой, почти хозяйский, но от него по всему телу Петра пробежал электрический разряд.
Однажды, когда нужно было отнести полное ведро в сарай, он пошел за ней. В прохладной, пропахшей дровами и землей темноте сарая он не удержался – обнял ее сзади, прижался губами к ее влажной от пота шее. Она ахнула, но не вырвалась, а обернулась и, смеясь, тоже поцеловала его – быстро, несмело, в уголок рта. Её губы были солеными от пота. Самый сладкий вкус, какой он когда-либо ощущал! Эти украдкой, неловкие, как у подростков, поцелуи в разгар тяжелой работы были слаще любой ночной страсти. Они были доказательством: любовь живет не только в темноте, она прорастает сквозь усталость, пот и землю.
Вечера после копки были посвящены переборке урожая. Они выносили стулья во двор, под зажженный фонарь, который отбрасывал желтый, колеблющийся круг света. Между ними стояла корзина с картошкой. Они брали по клубню, счищали крупные комья земли, сортировали: крупные, ровные – на еду, средние – на семена, мелочь и порезанные лопатой – на корм скоту. Пальцы их двигались в такт, иногда касаясь в корзине. Тишину нарушали только редкие реплики: «Эту, гляди, медведка погрызла» или «А эта чуть кожица порезана, съедим первым делом». В этом монотонном, почти медитативном занятии была своя, глубокая поэзия. Они не просто готовили запасы на зиму, они пожинали плоды. Своих рук, своего общего труда, своего союза.
Последним делом нужно было спустить картошку в погреб. Петр забирался в прохладную яму погреба, а Мария подавала ему сверху сетки, аккуратно заполненные отборной картошкой. Он принимал их и укладывал на полки, выстроенные еще отцом. «Подавай!» – кричал он снизу, и она, смеясь, опускала очередную порцию. В этом простом взаимодействии была полная, абсолютная цельность. Он – внизу, принимающий. Она – наверху, дающая.
Когда последний мешок был убран, а погреб прикрыт ветхими одеялами от зимних морозов, Петр почувствовал не просто облегчение, а необходимость отметить окончание страды. Не так, как это делали другие мужики – бутылкой водки под последним кустом. Выпить он мог, конечно, но это было бы каким-то чужим, ненужным праздником. Ему хотелось чего-то своего. Для нее.
И он придумал своё. В субботу запряг Рыжку в легкие дрожки и сказал Марии, с азартом.
– Собирайся. В райцентр поедем.
Она удивилась, но спросила лишь.
– Надолго? Кто коров подоит?
– До вечера все успеем.
Дорога в райцентр была долгой и неровной от подсохших луж, но он не замечал ухабов. Он видел, как Мария сидит рядом, пряча лицо от ветра в платок, как ее глаза разглядывают мелькающие поля и перелески. Он вез свою жену. Это осознание наполняло его спокойной гордостью.
В универмаге райцентра, в отделе тканей, царила та же скудная советская реальность: блеклый ситец, грубый сатин, байка для пеленок.
Сначала Петр предложил Марие прикупить ниток-мулине для вышивки и мотки шерстяной пряжи для вязания. Она с наслаждением перебирала нитки, придирчиво рассматривала шерсть. Видя одобрение в глазах Петра, она набрала столько материалов для рукоделия, что должно на всю зиму хватить. Тут же нашлись крючки и новые спицы для вязания.
А потом Петр повел её дальше. На самом дальнем прилавке, под стеклом, лежали самые дорогие ткани. Мария ахнула, увидев шелковистый креп-сатин, бледно-розовый, как яблоневый цвет.
Увидев реакцию жены, Петр лишь улыбнулся.
– Дайте вот этот, – сказал Петр продавщице, указывая пальцем на шелк. Эта ткань была не практичной, не для работы в огороде. Совершенно бесполезной с хозяйственной точки зрения. И потому – идеальной.
Мария, стоявшая рядом, остолбенела.
– Петр, зачем? Это же так дорого!
Он не стал слушать. Продавщица завернула ткань, хитро поглядывая на деревенскую пару. Петр Расплатился, взял сверток и, выходя из магазина, вручил его ей.
– На, – сказал он, глядя куда-то