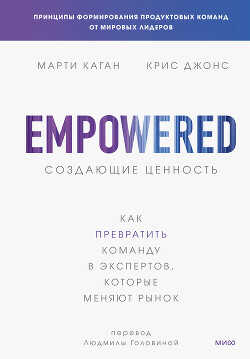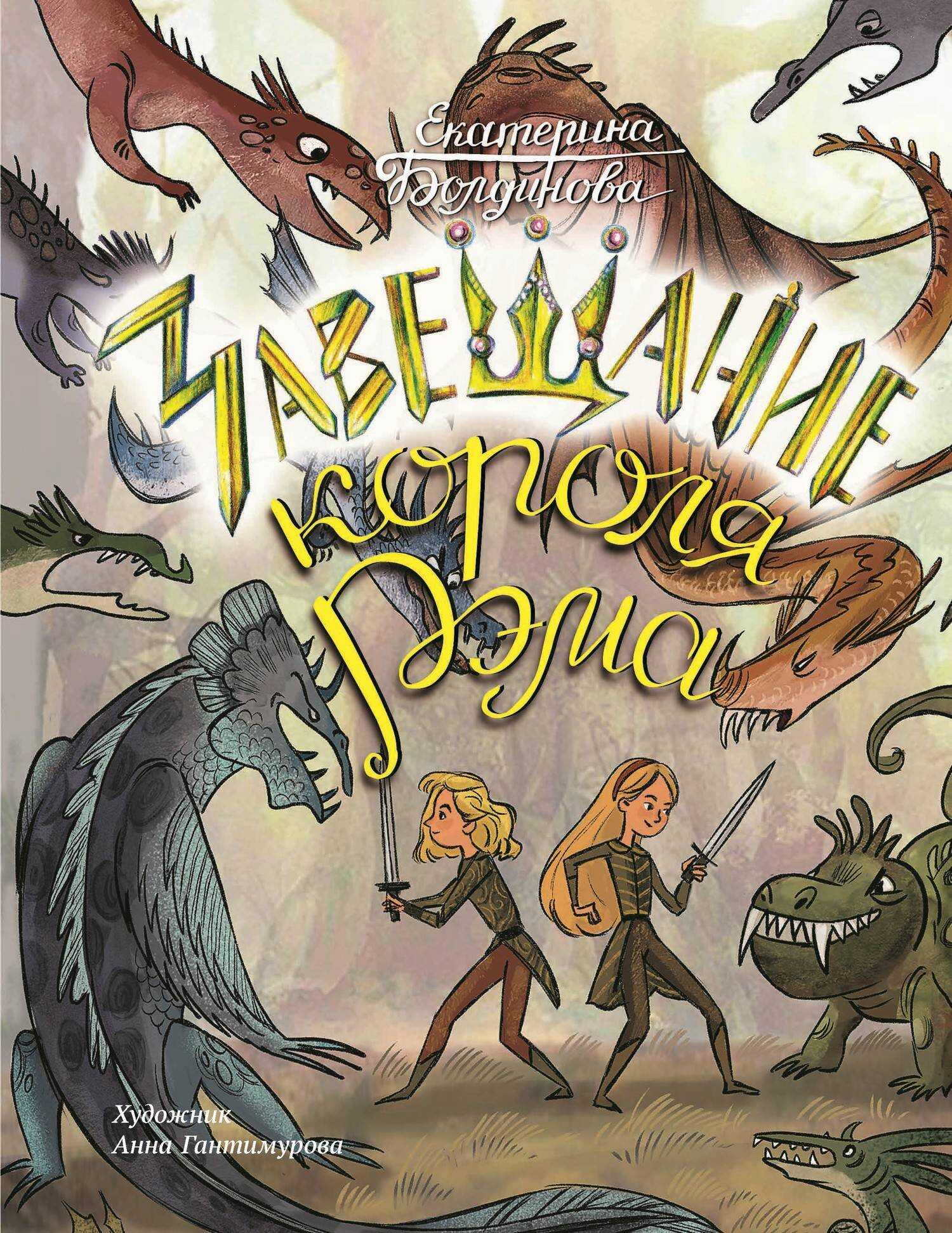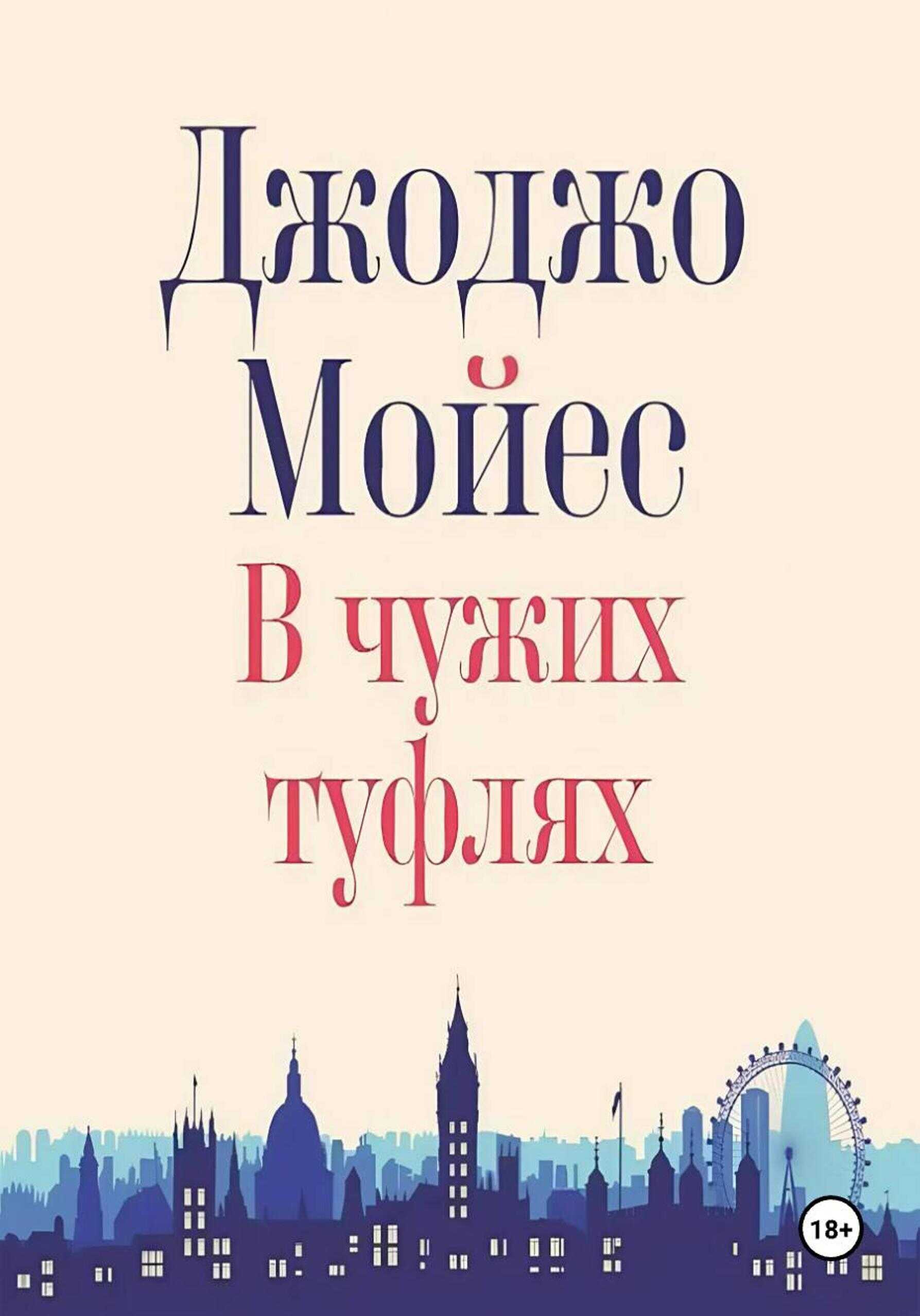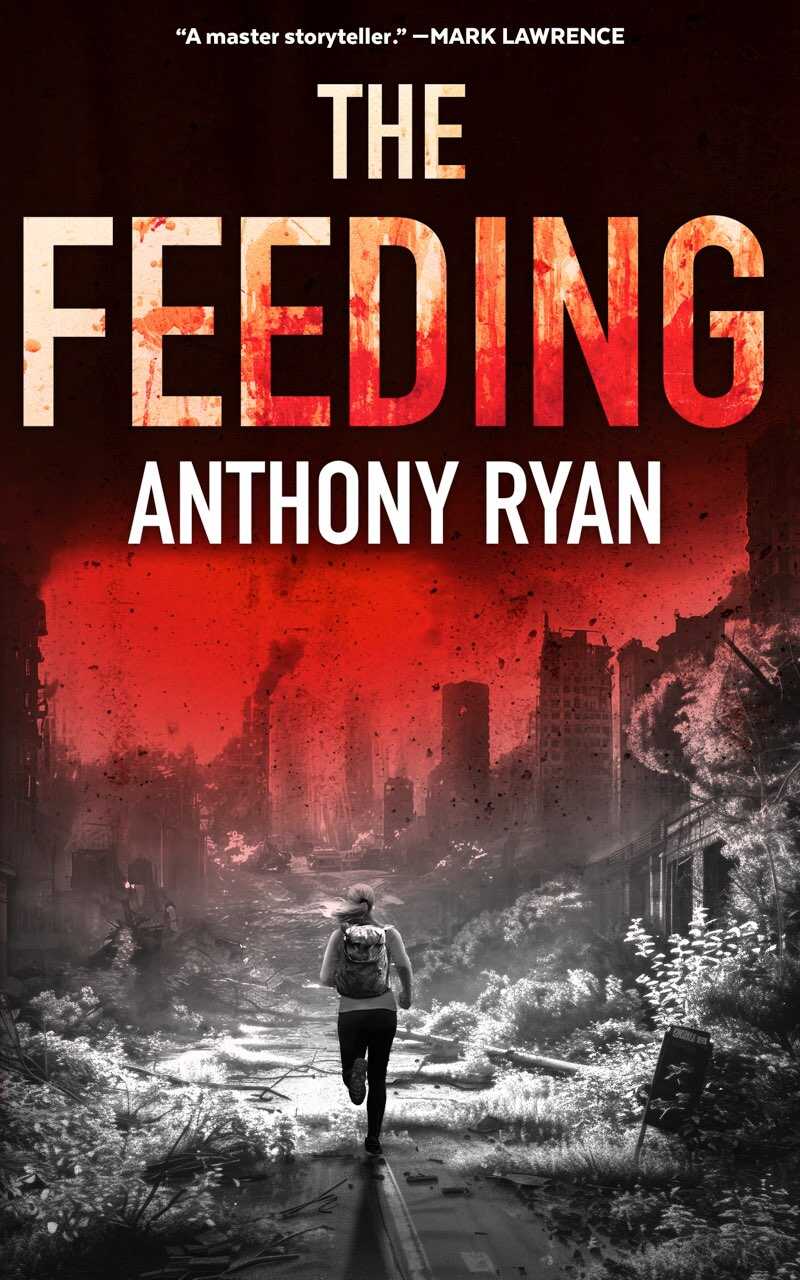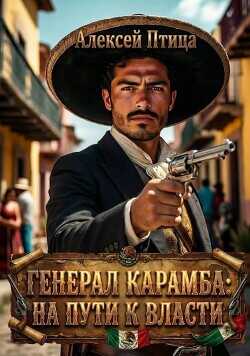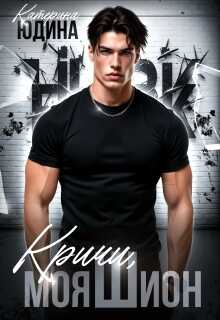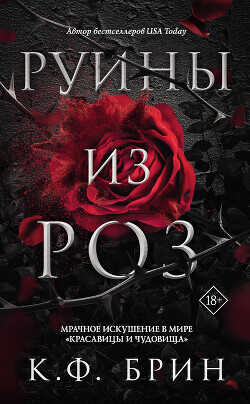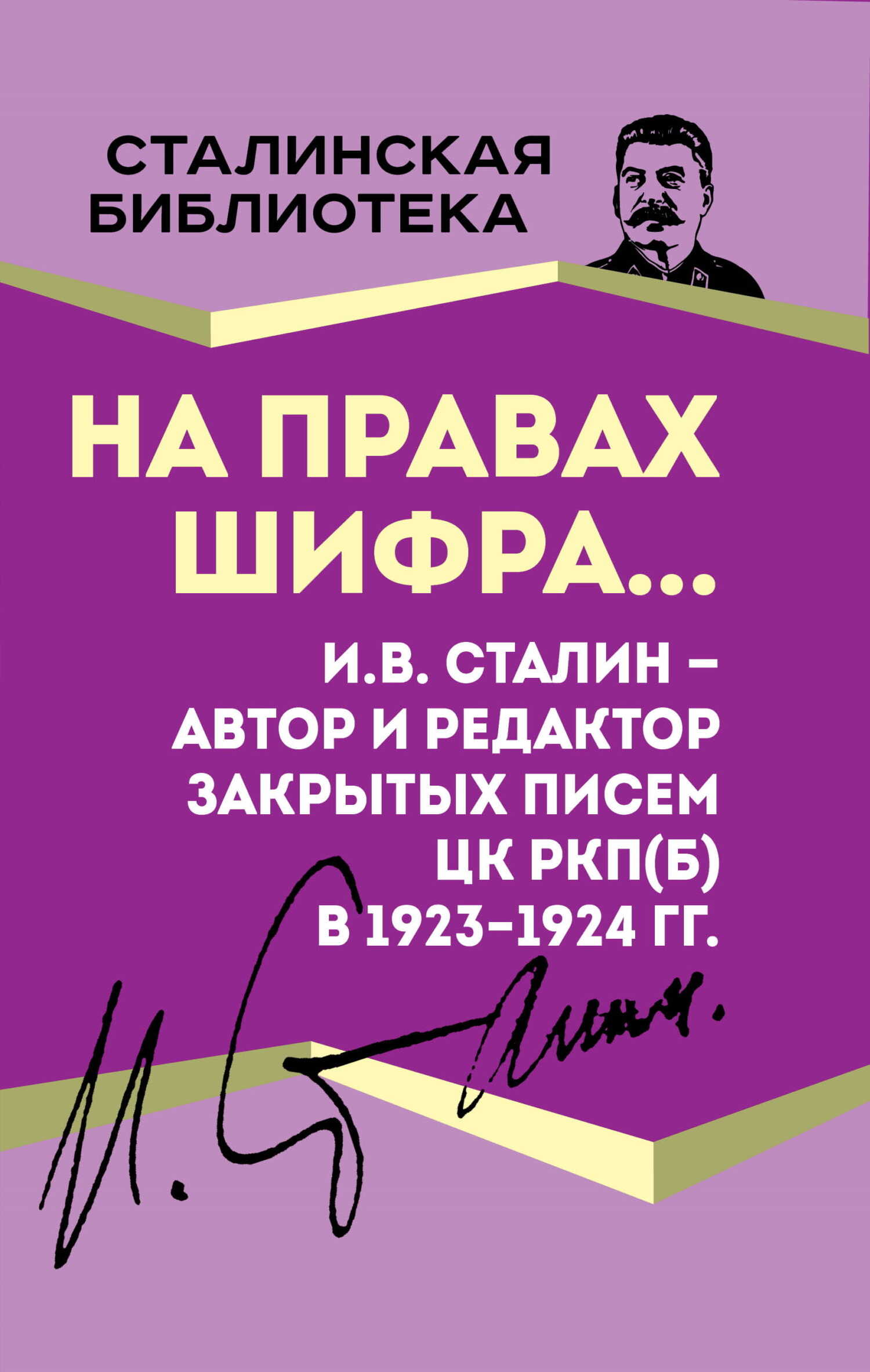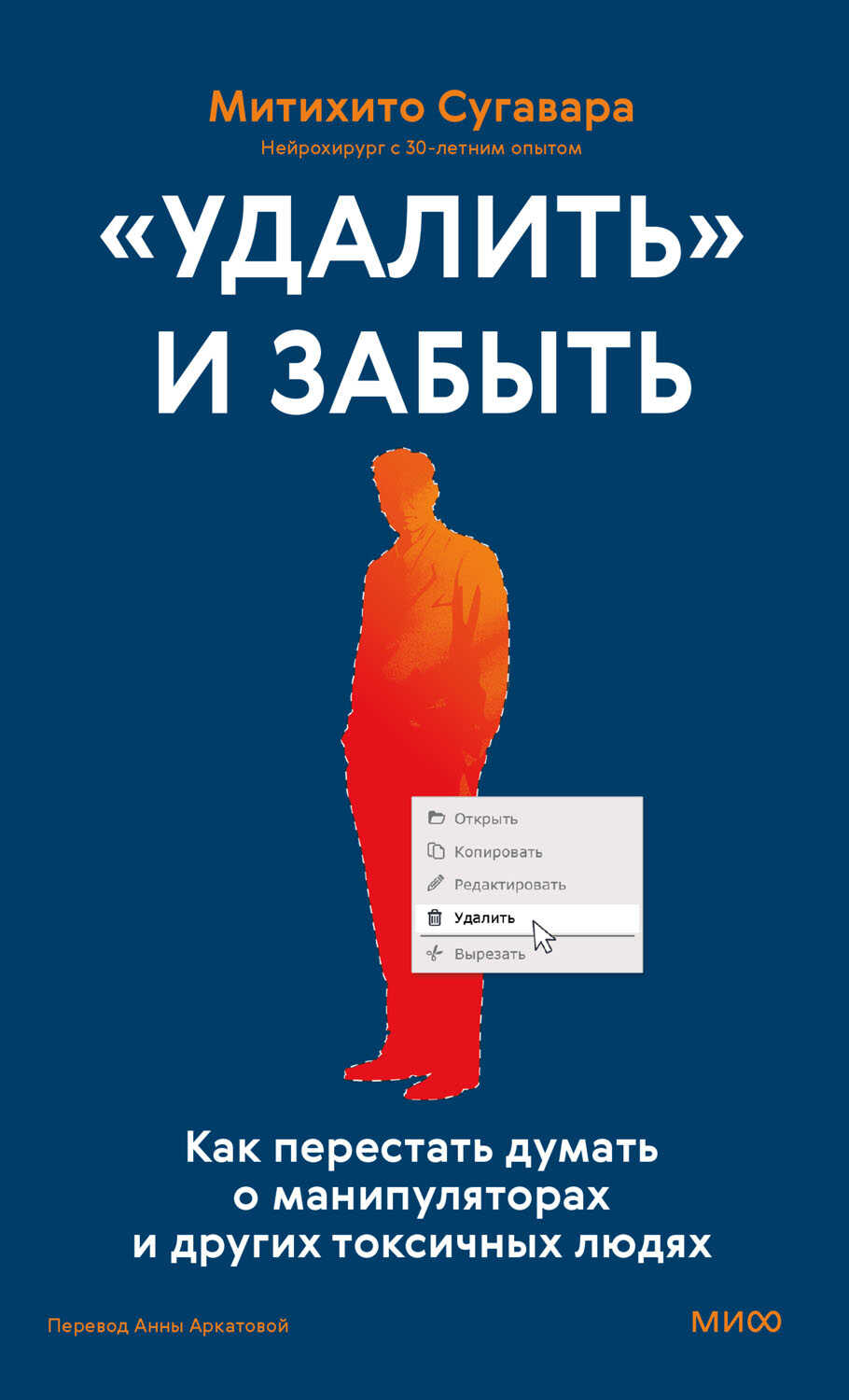Делом займись - Ольга Усачева
Они обходили свои владения, и Мария чувствовала себя королевой, проверяющей войска. Вот морковь – тонкие, ажурные метелочки ее ботвы уже сомкнулись в ровные рядки. Рядом – свекла, ее листья, толстые и бархатистые, с малиновыми прожилками, лежали на земле роскошными розетками. В парнике из старых рам буйствовали помидоры – обильно цвели желтыми звездочками-цветами, обещая к концу лета тяжелые, алые гроздья. На двух старых яблонях среди темно-зеленой листвы, как бусины, висели мелкие, твердые, еще совсем зеленые яблочки. Каждый вечер они становились чуть больше, чуть круглее.
Это ощущение – полноты жизни – переполняло Марию до краев. Тепло летнего вечера, запах мокрой земли и зелени, плеск воды, тяжелая, приятная усталость в мышцах и… его молчаливое присутствие рядом. Петр тоже смотрел на грядки, иногда поправлял шланг, и в его глазах, обычно таких суровых, она ловила то же, что и у нее – тихое, глубокое удовлетворение.
Один раз, поправляя шланг, его рука на секунду коснулась её мокрой руки. Никто не отдернул. Прошла секунда, и он двинулся дальше, но в месте прикосновения еще долго стучало тепло
Они не говорили о счастье. Они его делали. Вместе. Каждый вечер, поливая эти ряды будущего урожая.
***
Именно в один из таких золотых июньских вечеров к калитке осторожно постучалась соседка, тетя Галя. Женщина лет пятидесяти, всегда озабоченная и суетливая.
– Маш, дорогая, – начала она, виновато поглядывая на Петра, копавшегося у теплицы. – У меня к тебе дело… Дочка-то моя, Любка, замуж выходит. Осенью свадьба.
– Поздравляю, тетя Галя, – улыбнулась Мария, вытирая мокрые руки о фартук.
– Спасибо, милая. Да вот беда-то… Приданое собираем, а свадебного рушника нет. Раньше бабки вышивали, а нынче кто ж умеет? Я уж по всему селу спрашивала. И тут вспомнила… Говорят, ты, Маша, мастерица. Руки золотые. Мне Матвей-скотник хвалился, как ты ему зимой носки с узором связала. Говорит, даже жалко их просто так надевать. Видела я те носки – красотища! И еще он сказал, что ты вышиваешь. Не выручишь ли? Я и ткань дам, и нитки куплю. Заплачу, как скажешь…
Мария почувствовала, как земля уходит из-под ног. Рушник! Не просто тряпица, а свадебный обрядовый предмет. На нем молодым руки свяжут, через него жених невесту в дом переведет. На нем должна быть не просто вышивка, а оберег. Сложнейшие узоры: древо жизни, птицы-павы, знаки солнца и земли. Малейшая ошибка – и все насмешки, да и сглазить недолго.
Паника, холодная и липкая, сдавила горло. Она хотела отказаться. Сказать, что не умеет, не справится. Но тетя Галя смотрела на нее такими полными надежды, почти умоляющими глазами. И в голове Марии пронеслось: это первый раз, когда ее труд кому-то по-настоящему нужен. Не для себя. Для другого. Для большого, важного события.
Краем глаза она увидела, что Петр перестал копаться у теплицы и, прислонившись к косяку, слушает, не вмешиваясь. Его присутствие сейчас придавало сил, и она услышала свой голос, тихий, но твердый:
– Хорошо, тетя Галя. Попробую. Приносите ткань. Льняную, крепкую. И нитки мулине… красные, в основном. Да еще зеленые, синие, желтые немного.
Соседка просияла, закивала, засуетилась и, осыпая благодарностями, удалилась. Мария стояла, опершись о штакетник, и слушала, как в ушах звенит тишина. Она согласилась. Что же она наделала?
Вечером, убравшись на кухне, она пошла в свою мастерскую. Села на табурет перед пустым пока станком, положила руки на гладкое дерево. Паника отступала, сменяясь другим чувством – ответственностью и странным, нервным азартом. Она достала из шкафа старую тетрадь в клетку – свой «альбом» узоров, который вела с юности, срисовывая орнаменты со старых рушников и из книг по народному искусству. Листала пожелтевшие страницы. Древо жизни… Птицы-павы… Геометрические знаки поля и плодородия.
Листая страницы, ее пальцы остановились на самом первом, детском рисунке – коряво нарисованном цветке с семью лепестками, обведенном по контуру кривыми крестиками. Тогда, в детстве не книги стали ее первыми учителями. Первым учителем была бабушка Фекла. Она жила с ними, в маленькой, темноватой горенке за печкой. Бабушка почти не выходила со двора, ее согнутые артритом пальцы уже не могли держать тяжелое ведро или вилы. Но они помнили другое. Когда маленькая Маша, девяти лет от роду, справлялась с поручениями матери (присмотреть за младшими, подоить козу, принести воды), кралась в бабушкину горенку, там начиналось волшебство.
Бабушка сажала ее рядом на сундук, пахнущий ладаном и сухими травами, и в ее жилистых, теплых руках лежали спицы или крючок.
– Гляди, внучка, – шептала она хриплым, тихим голосом, будто делясь великой тайной. – Воздушная петля. А теперь – столбик. Вот так, крючок подхватывает ниточку и вытягивает её на свет… Видишь, как солнышко в окошке на ней играет? Это оно нитку золотит для нашего узора.
А потом был ткацкий станок. Не такой большой, как у Петровой матери, а маленький, настольный, грубый, сколоченный еще дедом. Бабушка сажала Машу перед ним, сама становилась сзади, обнимая ее своими костлявыми руками, и клала ее ладошки на деревянный челнок.
– Вести его надо ровно, без суеты, – нашептывала она ей в макушку. – Как по речке лодочку. Тыц-тыц-скр-ш-ш-ш. Слышишь, как разговаривает? Это он сказку ткет. Про наш дом, про поле, про речку. Каждый раз – новую.
И Маша верила. В темной горенке, пропахшей шерстью и яблоками, под мерный стук челнока рождалась не просто ткань. Рождался порядок, красота, смысл. Бабушкины руки, такие же шершавые от жизни, как у матери, здесь не рубили, не тянули, не сжимались в кулак. Они творили. И учили творить ее. Это было сокровенное знание, переданное шепотом, вне очереди «больших дел». Знание о том, что кроме тяжкого труда выживания, есть еще и труд созидания красоты. Труд для души.
«Лучше делом займись!» – этот окрик матери, доносившийся из сеней, обрывал волшебство. Маша вздрагивала, а бабушка лишь грустно качала головой и прикрывала станок половичком. «Иди, внучка, иди. Наше дело подождет. Оно терпеливое».
И оно подождало. Прождало долгие годы в сундуке ее памяти, под слоем страха, усталости и чужих насмешек. И вот теперь, в этой тихой, светлой комнате, подаренной ей молчаливым мужем, оно снова вышло на свет. Так же терпеливо, как когда-то бабушка Агафья. «Тыц-тыц-скр-ш-ш-ш».
Мария прижала ладонь к гладкой деревянной балке станка Петровой матери. Бабушкин станок был другим, меньше, беднее. Но песня у них была одна. И теперь она, Мария, стала звеном в этой цепочке. От бабушки Фёклы – к ней. А от нее, может быть, – к другим девочкам. Жаль, у неё нет дочки, которая когда-нибудь смогла бы играть под этим станком…
***
Мария уже видела, как будет работать над рушником. Сначала подготовит ткань, промоет, погладит. Потом нанесет узор тонким, едва заметным карандашом. Будет вышивать гладью и крестиком, самые важные места – швом «роспись», чтобы с двух сторон одинаково было. Будет сидеть здесь, в мастерской, вечерами, после всех дел. Петр, наверное, будет читать в своей комнате или чинить что-нибудь. А здесь будет тихо, и только игла будет поскрипывать, входя в плотное полотно.
Она подняла глаза и посмотрела из окна мастерской. Во дворе, под уже темнеющим небом, маячила высокая фигура Петра. Он что-то проверял у новой бани. Ее муж. Человек, который подарил ей не только крышу, но и вот эту комнату. Который молча поливал с ней грядки и в чьем присутствии она чувствовала себя не служанкой, а хозяйкой и… женщиной.
Она прижала к груди