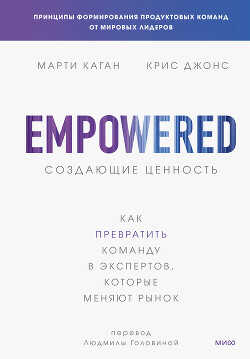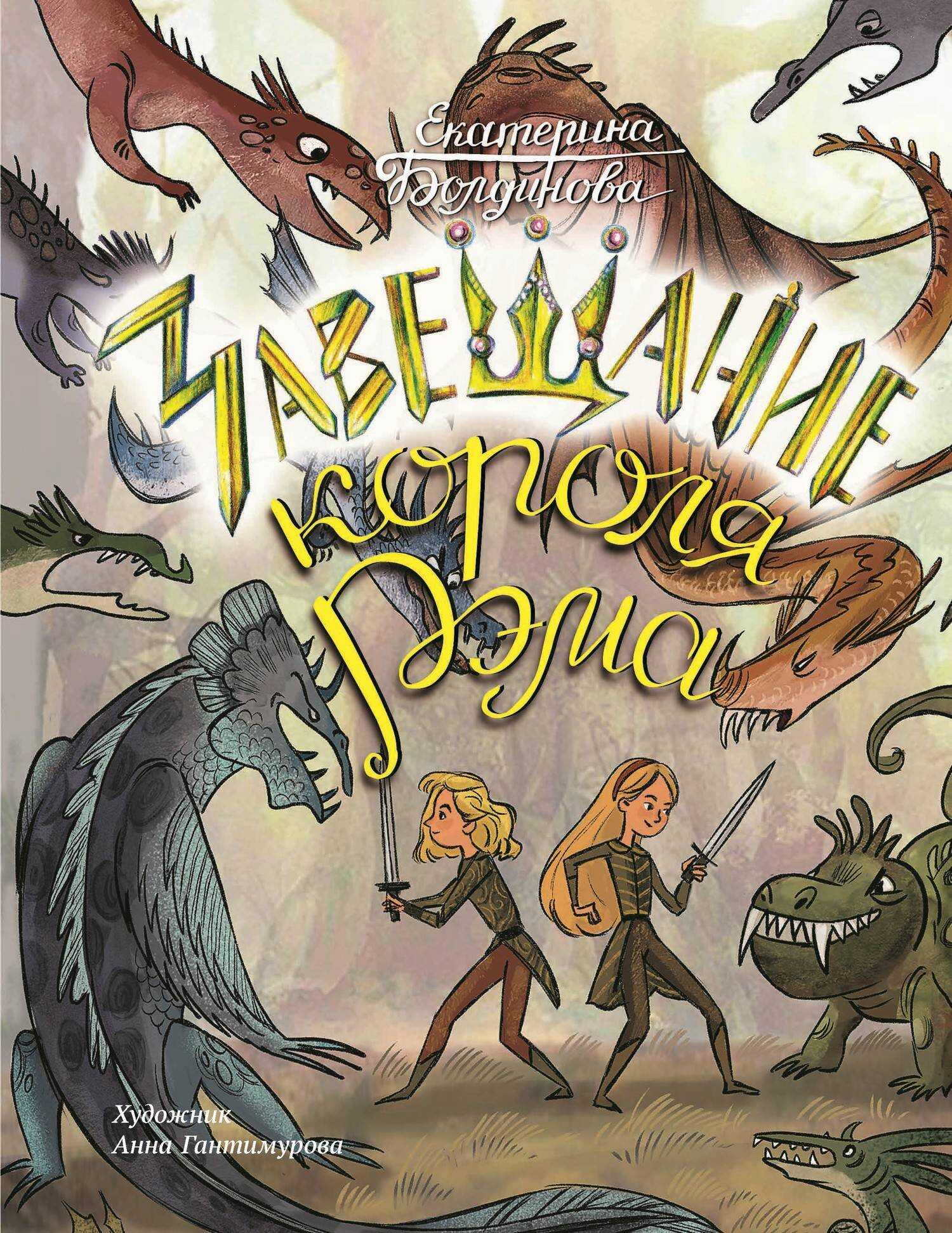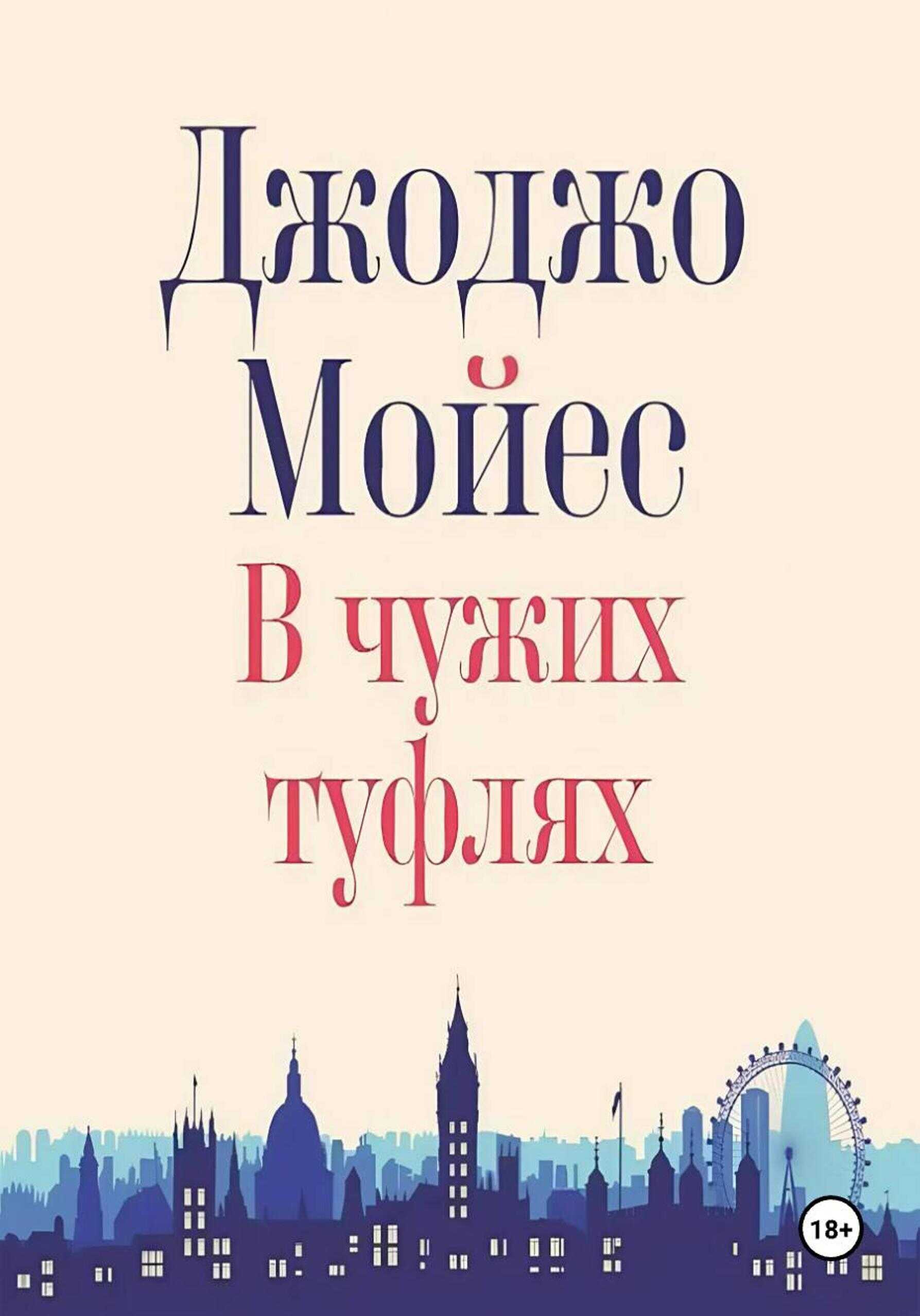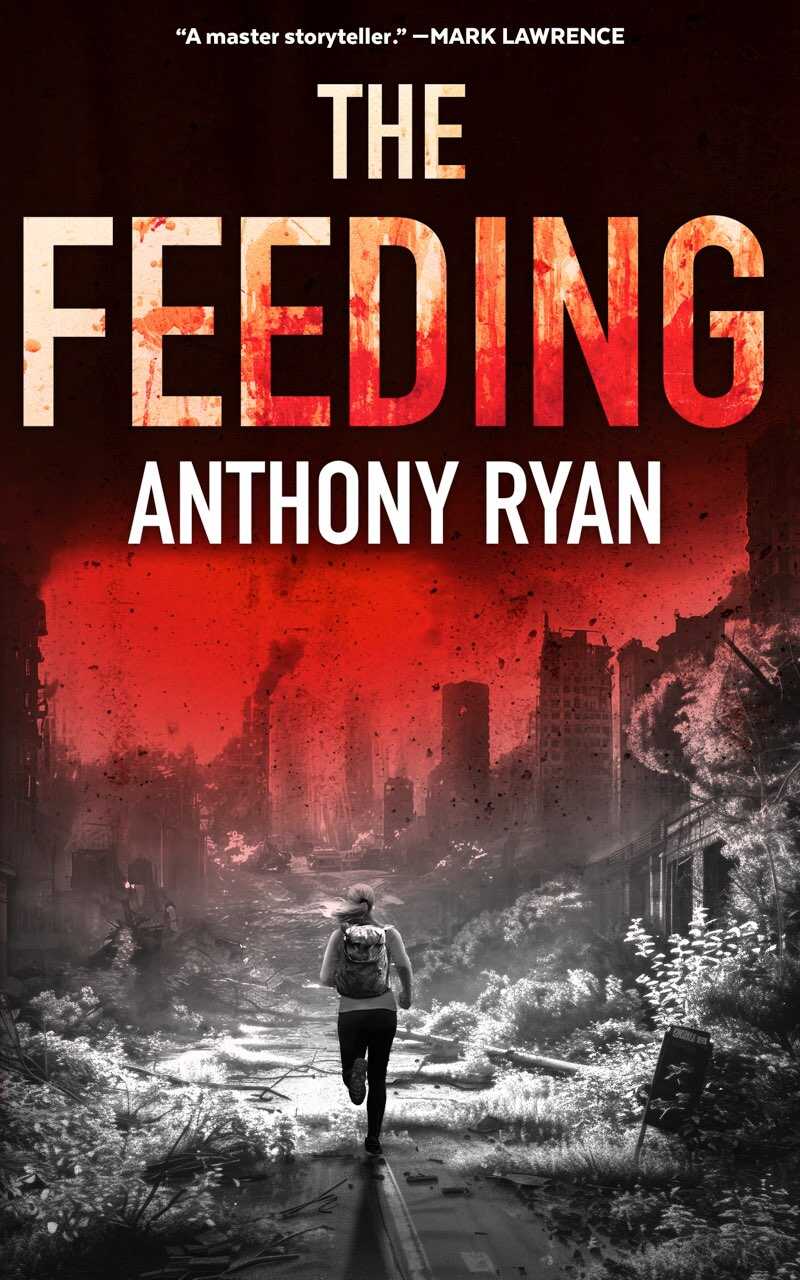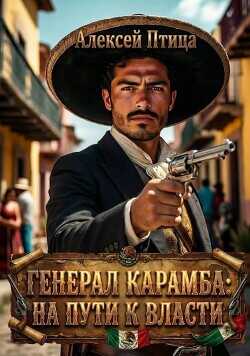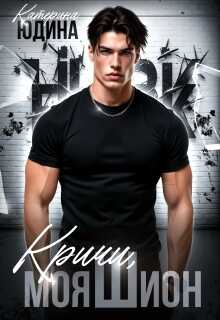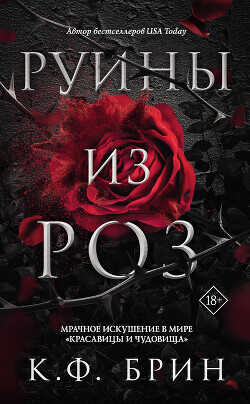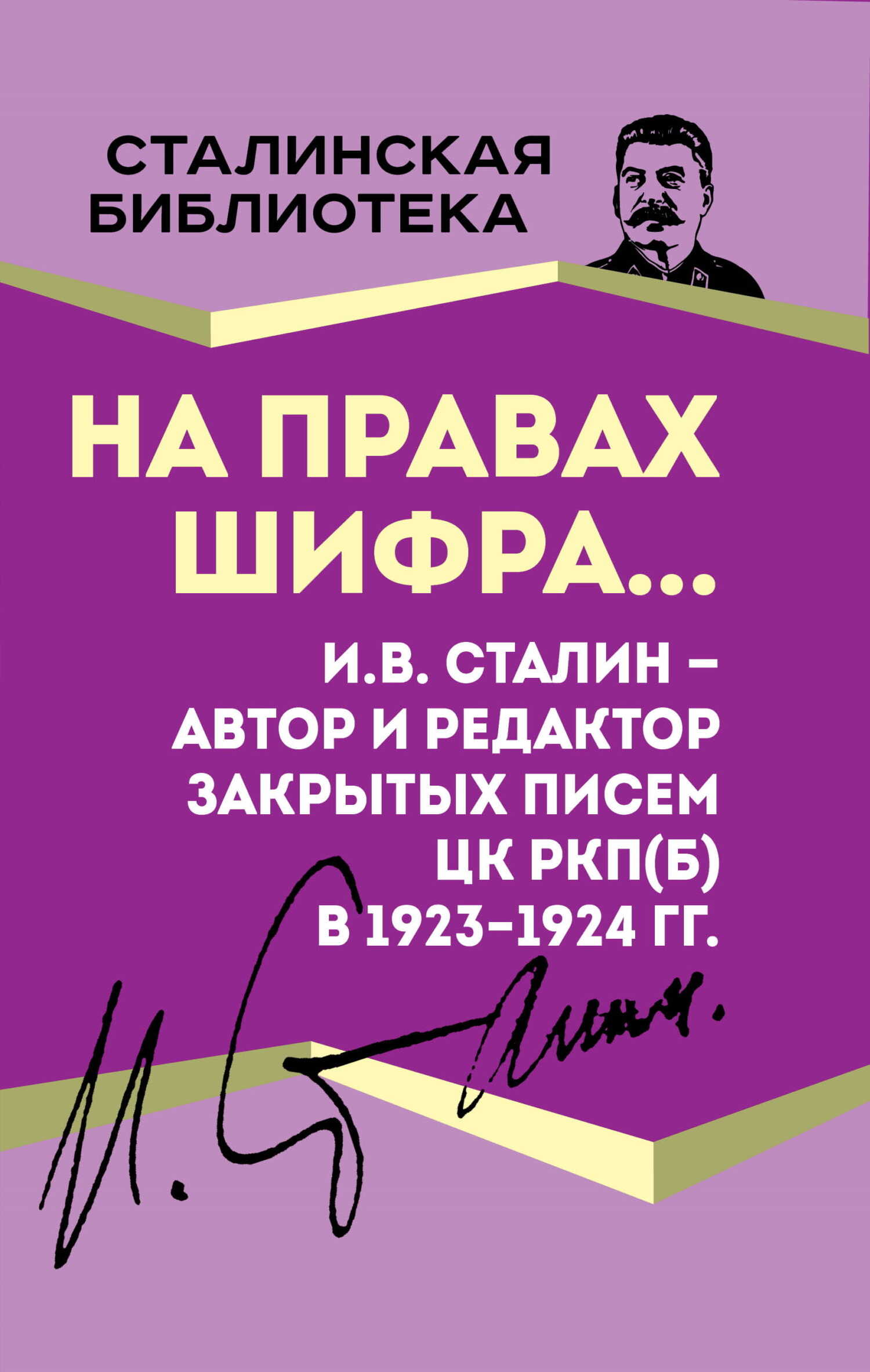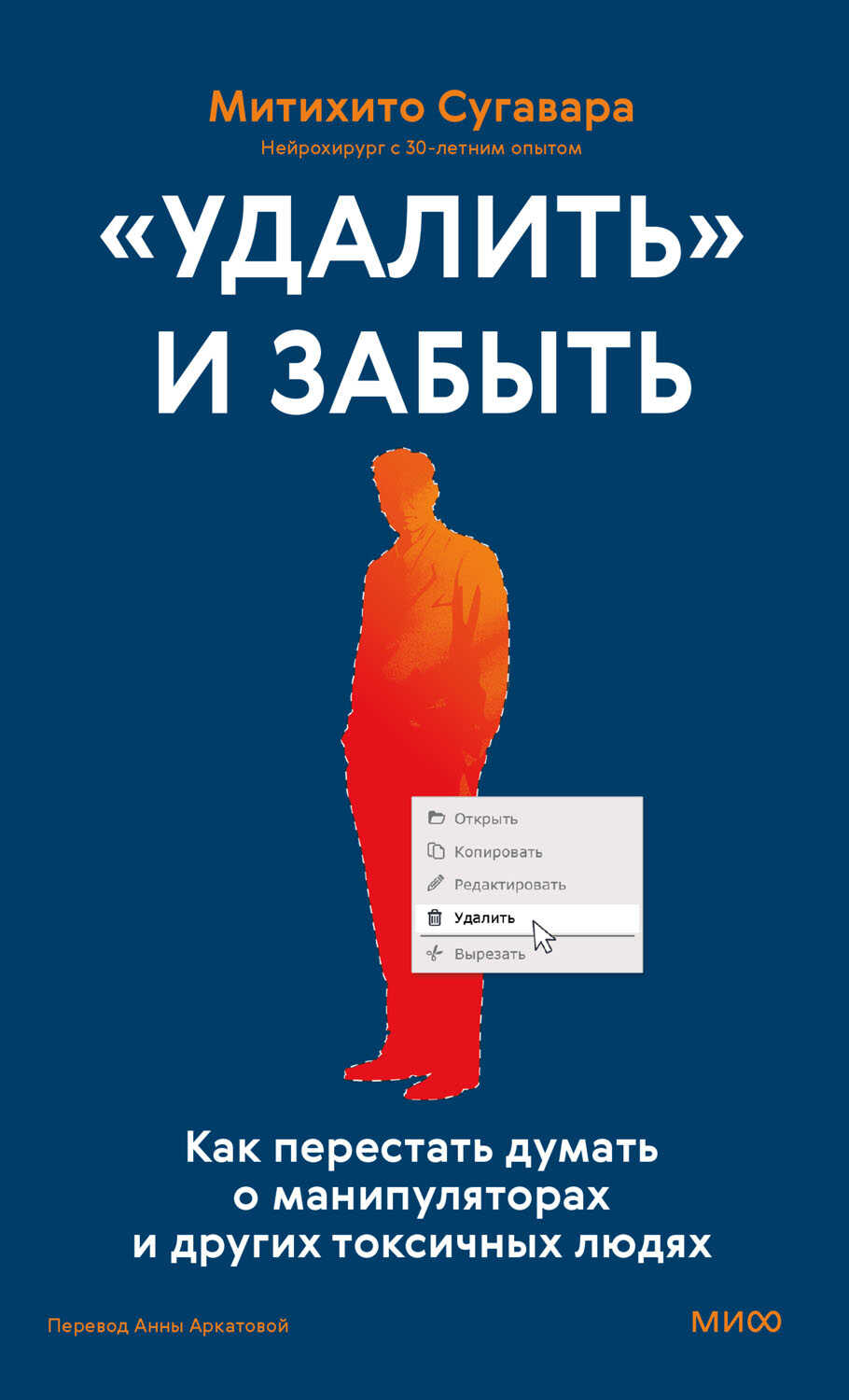Делом займись - Ольга Усачева
У Петра с ней был уговор – молчаливый, но понятный. Никто никому ничего не должен. Он приходил, когда тело требовало простого тепла, а на душу накатывала похмельная тоска одиночества. Она принимала его простенькие подарки за настоящие ухаживания? Ай, да не всё ли равно. И не было у них никаких тебе разговоров про чувства, про жизнь. Ему в её доме, пропахшем кислятиной и портянками, всегда после становилось противно. Он уходил, отряхиваясь, как от грязи. И так всех устраивало. Вернее, ему так казалось.
А теперь гляди-ка – приревновала. К тихой, серой Машке, которую сама же «замухрышкой» обзывает. Значит, в её башке какие-то шестерёнки всё-таки провернулись не туда. Могла, что ли, влюбиться? В него, в бирюка лесного? Смешно. Скорее всего, просто испугалась, что насиженное, удобное место у неё отбирают. Рассчитывала, поди, что он так до седых волос к ней ходить будет, а потом, глядишь, и женится от безысходности. «Баба ж я, Петруха, тоже хозяйственная, – могла она думать. – Уберусь, накормлю». Да только мысль о том, чтобы эта самая Зина, у которой полдеревни в гостях побывало, хозяйничала в его доме, стелила бы простыни на матушкину кровать, готовила в матушкиных чугунах – эта мысль вызывала у него такую острую брезгливость, что аж подташнивало. Нет уж. Лучше уж в одиночку.
«Кто ж тебе не давал, дура, приличную жизнь вести? – с холодной злостью подумал он, уже возвращаясь к дому. – Сама себя в это болото загнала. И теперь тонешь».
А у него теперь – не болото. У него – корень. Крепкий, чистый. И он это корень будет беречь пуще зеницы ока. От всех. А от таких, как Зина, – особенно.
С этим чувством внутренней расчистки он вернулся к главному делу – стройке. Старая баня, хоть и крепкая, за двадцать лет порядком прогнила. Новый сруб, заготовленный еще зимой из отборной осины, лежал во дворе. Вместе с соседями-мужиками они за выходные сначала разобрали старую баню, а потом «подняли» новый сруб на добротный каменный фундамент. Теперь предстояла тонкая работа – конопатить.
И тут его главным и неожиданным помощником стала Мария. Петр предложил ей съездить на дальнее лесное болото за мхом-сфагнумом – лучшим утеплителем. Мария, не раздумывая, села в лодку рядом с ним.
Болото в начале июня дышало своей сырой дикой жизнью. Воздух звенел от комариных роев, пахло болотной водой, гнилой клюквой и сосной. Петр, стоя на носу плоскодонки, длинной жердью с крюком на конце – «кошкой» – зачерпывал со дна болота плотные, упругие подушки мха. Они выходили на поверхность тяжелыми, изумрудными глыбами, источая вековую прохладу. Мария, ловко орудуя веслом, подводила лодку, куда он велел, а потом помогала складывать мох в корзины. Руки ее, привычные к тонкой работе, оказались сильными и цепкими. Она не брезговала ледяной болотной жижей, не жаловалась на комаров, работала молча и сосредоточенно.
– Держи крепче, – только и говорил Петр, передавая ей очередную тяжелую порцию мха. Мария кивала, и в ее водянистых глазах он читал не усталость, а ясную сосредоточенность на деле.
Петра накрыло воспоминанием. Не о матери – ее образ был всегда рядом, в запахе трав в её комнате, в станке. А об отце.
Арсений Петрович. Высокий, сухой, как сосна после лесного пожара – выжженный болезнями, но несгибаемый. Он доживал свой век, отмеренный осколками в легких и старыми ранами, которые ныли к непогоде, сидя на завалинке. Но в памяти Петра он был другим – тем, каким запомнился с детства: титаном, чья тень закрывала весь двор.
Именно отец, а не мать, был для него главным учителем. Не словами – делом. Петр, мальчишкой, семенил за ним по лесу, едва поспевая за его длинным, размашистым шагом. «Стой, – останавливал его отец. – Видишь?» И пальцем, толстым, кривым от работы, указывал на еле заметную вмятину в хвое. – Лось прошел. Ночевал. Здесь лежка. А это – порхалище тетерева. Учись не глазами смотреть, а видеть. Лес всё расскажет, кто умеет слушать».
Отец научил его не только читать следы. Он научил его беречь лес. «Лесник – не охотник. Он – сторож. Его дело – чтобы росло. Строевой лес – это богатство, его век считай. А дровяной – на потребу. Муравейник не разоряй – они санитары. Подранка из ружья добей – мучаться не давай. И огня бойся пуще волка».
И еще одно, самое главное, чему научил отец – наблюдал Петр не в лесу, а дома. Как этот суровый, молчаливый фронтовик, чьи руки ломали лосиные рога, относился к своей жене Варваре, матери Петра. Отец никогда не повышал на нее голос. Напротив, его голос, всегда глуховатый и резкий, становился тише, когда он обращался к ней: «Варя, послушай…» Он боготворил её. Петр видел, как отец, вернувшись с деляны, усталый и мрачный, замирал на пороге, увидев ее за прялкой. И лицо его разглаживалось. Он подходил, клал свою тяжелую ладонь ей на плечо и стоял так молча, глядя, как под ее пальцами ровная нитка бежит на веретено. Он уважал ее тихое, «бабье» дело, как уважал дело плотника или пахаря. Для него это был такой же честный и нужный труд.
«Женщина, Петро, – говорил он как-то, уже будучи больным, глядя в окно на мать, вешавшую белье. – Она душа дома. Мужик стены ставит, а она в них жизнь вдыхает. Без нее – холодно и пусто, как в новой избе без печи. Запомни».
Отец умер, когда Петру было пятнадцать. Отказало сердце, надорванное на войне и непосильным послевоенным подъемом. И пятнадцатилетний Петр, выслушав наказ отца «Хозяйство держи», стал главой. Он не плакал. Он просто взял на плечи то, что нес отец: лес, дом, хозяйство, заботу о матери. Старался делать всё так, как делал бы он. Молча, на совесть.
***
Мох сушили во дворе, разложив на старых простынях. Мария аккуратно переворачивала его, чтобы не слежался и сушился равномерно. Петра забавляло, как она с любопытством рассматривала прилипших на мох ракушек. Ребенок, ей богу!
А потом началась конопатка. Петр показывал: как взять пучок сухого мха, как скрутить его в жгут, как лопаткой-конопаткой и деревянной колотушкой аккуратно, но плотно забивать его в щель между бревнами, чтобы ни одной дырочки не осталось. Мария с первого раза уловила ритм. Сидя на досках лесов, она методично, сантиметр за сантиметром, утепляла стену, а он в это время рядом стругал плахи для полка.
Молчание между ними было насыщенным, деловым. Звук колотушек – тук-тук-тук – отбивал общий ритм. Он видел, как на ее лбу выступила испарина, как напрягаются тонкие мышцы на предплечьях, но она не останавливалась. И в этом упорном, качественном труде было что-то, что заставляло его смотреть на Марию с новой точки зрения. Не как на хозяйку или спасенную сироту, а как на равного. На того, кто не ноет, не отлынивает, а вкладывает в общий дом столько же сил, сколько и он сам. Уважение, которое он испытывал с самого начала, теперь перерастало в тихое, но твердое восхищение и благодарность.
Вечерами, уставший, но довольный, он шел не спать, а на чердак. Там, под самой крышей, в золотистой пыли, пропахшей сухими травами и старой древесиной, стояло его наследие. Старый ткацкий станок матери. Он был разобран, частично развалился от времени. Петр спустил его по скрипучей лестнице в комнату матери и поставил под лампу.
Это была сложная конструкция из темного, засаленного дуба. Горизонтальные навои для намотки основы, вертикальные ремизки с глазками для нитей, тяжелый челнок, похожий на ладью, бёрдо – гребенка, через которую пропускались нити, и педали, приводящие все это в движение. Что-то было сломано, ремни-«подножки» истлели, дерево рассохлось.
Петр садился на табурет, брал в руки наждачную бумагу, скобель, плоскогубцы и начинал возиться. Он не был краснодеревщиком, но руки лесника, привыкшие к точности и пониманию дерева, чувствовали, что