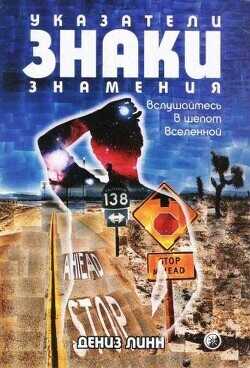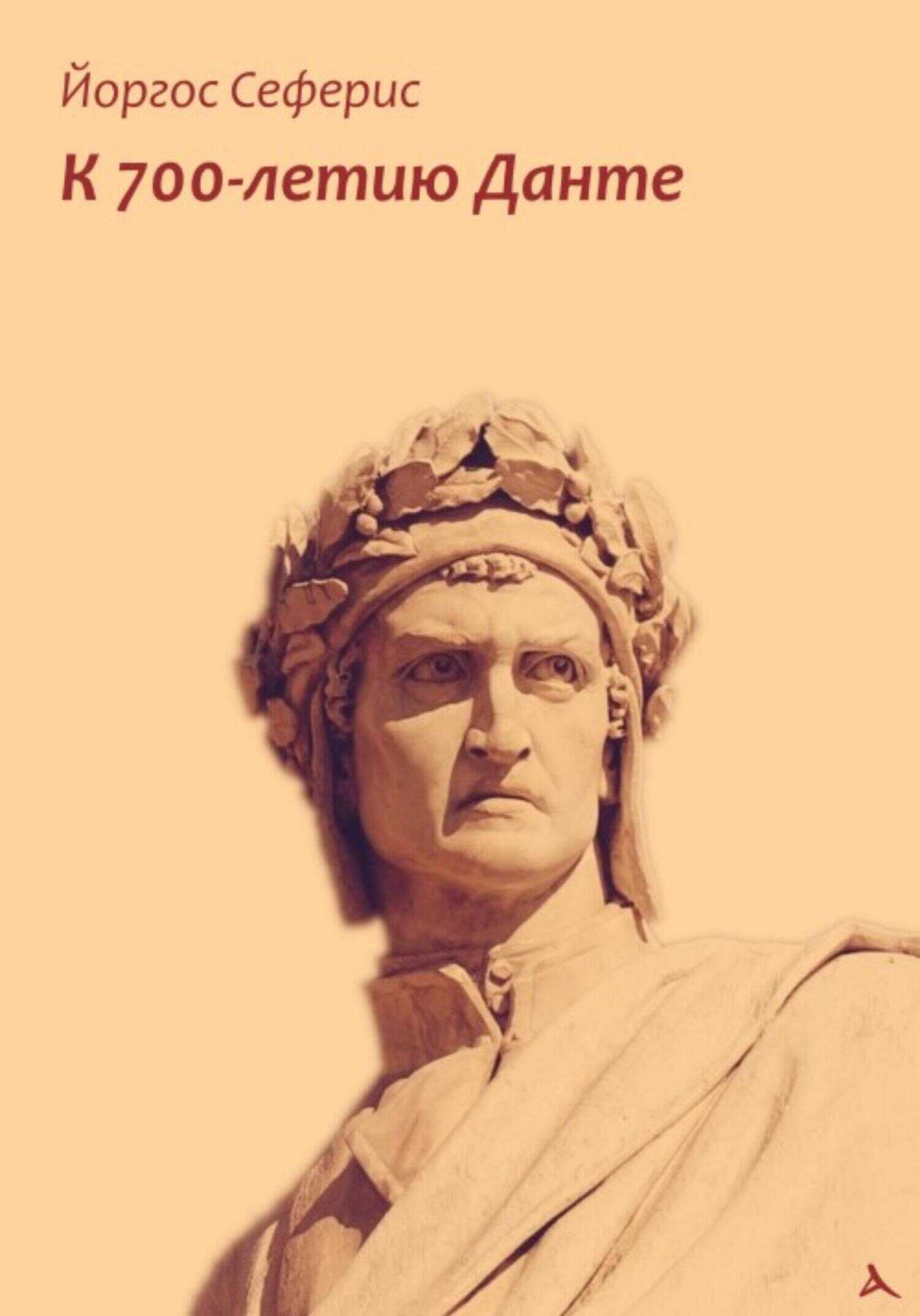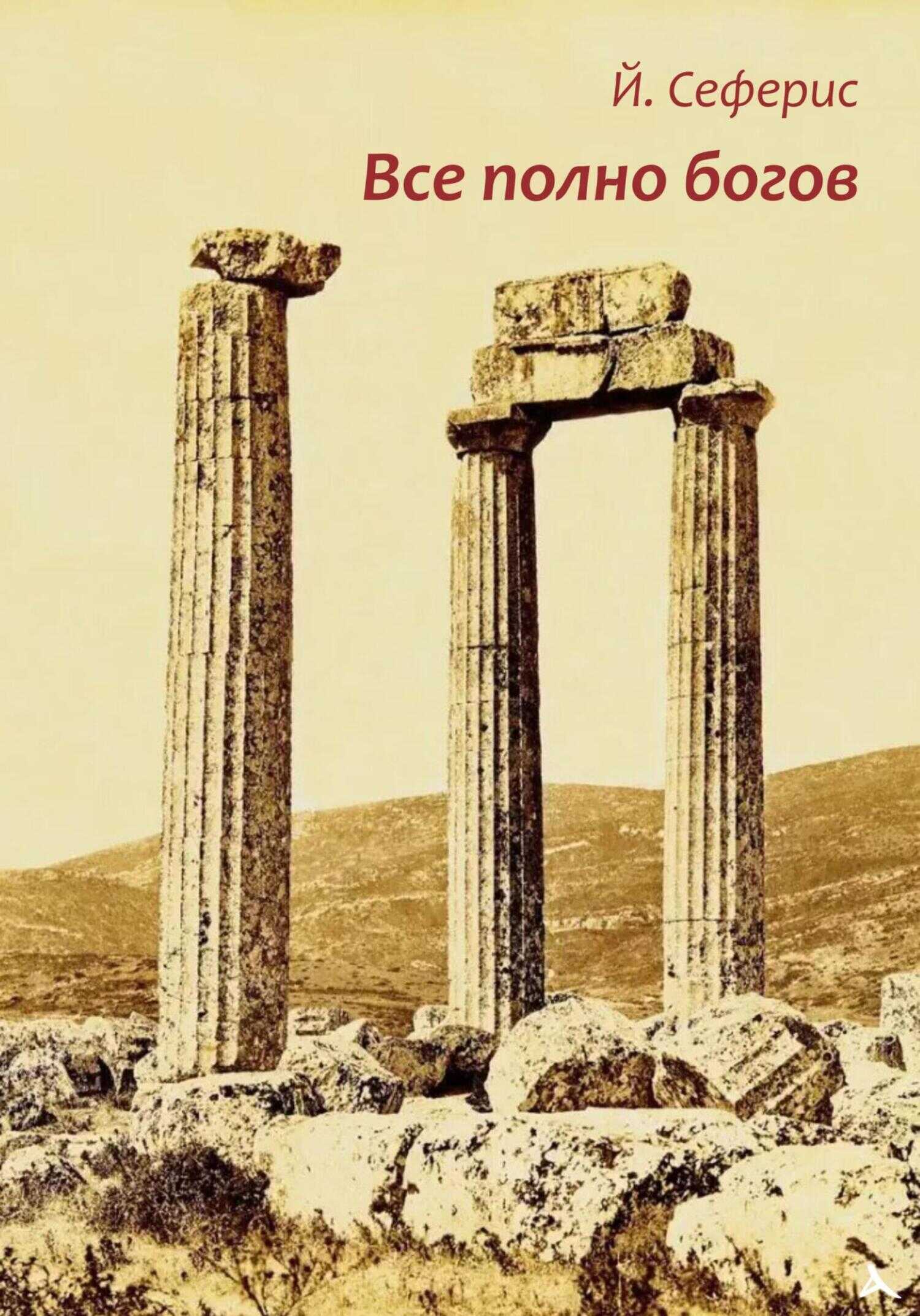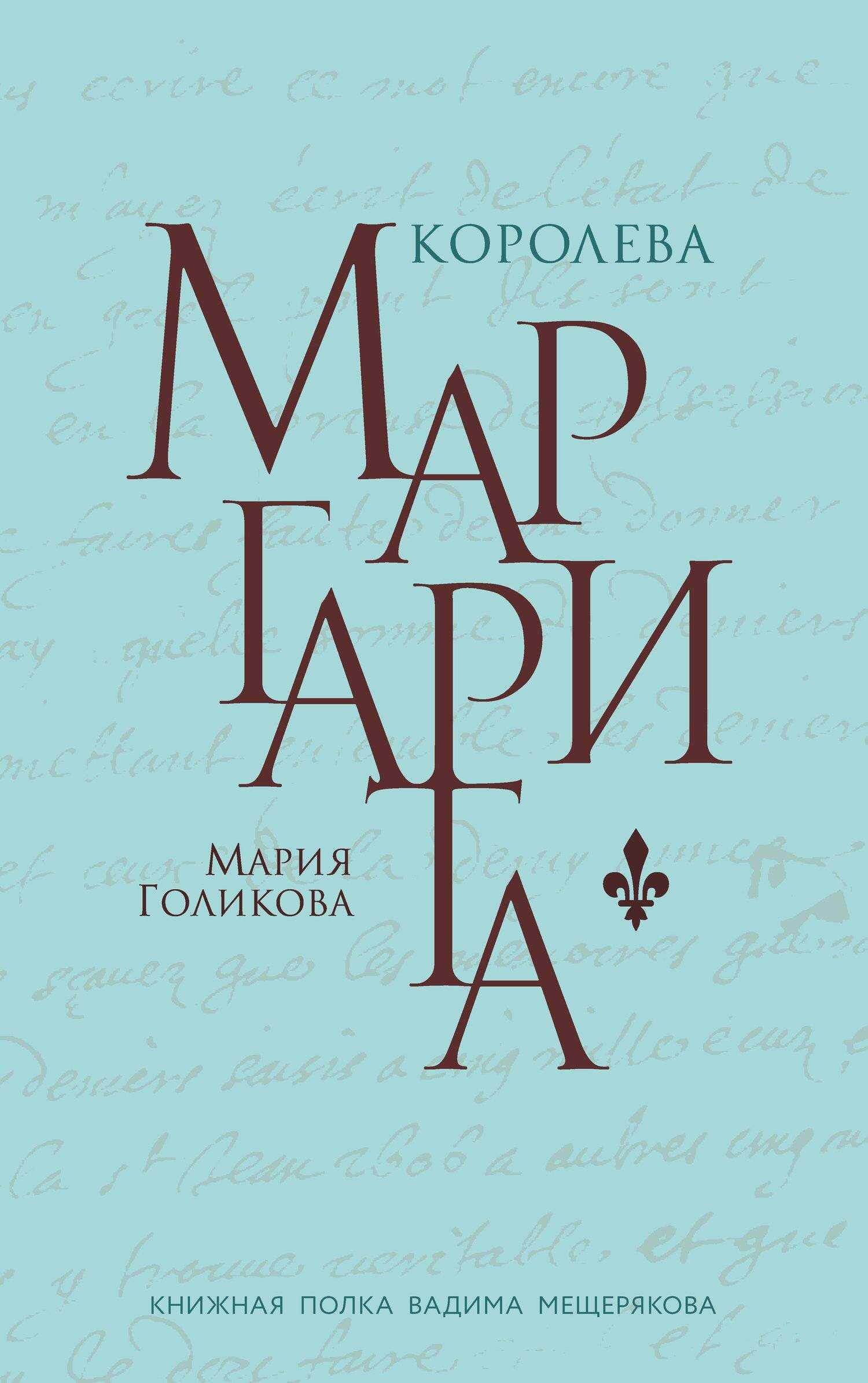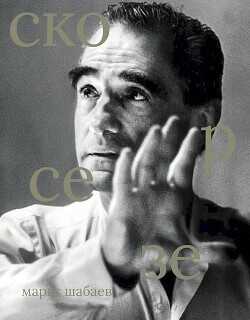Делом займись - Ольга Усачева
Мария отвернулась, будто увидела что-то непристойное. Но картинка въелась в память. Она теперь невольно замечала и другие неприглядные сцены у соседей все чаще. Из бывшего дома доносились не песни и не смех, а всё тот же знакомый фон вечного недовольства: крики, плач ребятишек, хлопанье дверей. Двор, который она когда-то держала в чистоте, теперь зарастал бурьяном. На крыше сарая зияла дыра, заделанная рваным куском рубероида. Ворота висели на одной петле.
И странное дело – глядя на это, Мария чувствовала не злорадство и не жалость. Она чувствовала облегчение. Как будто с неё сняли тяжкий, невидимый груз, который она таскала годами, даже не замечая его веса.
Шурин, выгоняя её тогда, в грязь и слёзы, кричал о своём праве, о законе. Он думал, что обрекает её на нищету и скитания, отнимает последнее. А вышло – он, сам того не ведая, вытолкнул её из этой ямы, в которую теперь провалился сам со своей семьёй. Он лишил её пропитанного горем пристанища и подарил ей шанс на другую жизнь. Ту, где мужчина не кричит, а молча чинит станок. Где в доме пахнет не перегаром, а пирогами и теплым деревом.
Мысль эта была такой простой и ясной, что у Марии даже дыхание перехватило. Она больше не держала зла на Николая. Не за что было. Он был просто слепым орудием судьбы, топором, который нечаянно разрубил её цепи.
***
И именно в эти дни, когда мир вокруг нее начал окрашиваться в новые, нежные цвета, она впервые столкнулась с Зиной.
Это случилось в сельповском магазине. Длинное, низкое здание с облезлой голубой краской на фасаде. Внутри пахло всегда одинаково: дешевым одеколоном, серными спичками и чем-то кислым. За прилавком, заставленным банками с томатной пастой, сгущенкой и пузатыми бутылками с растительным маслом, царствовала неспешная продавщица тетя Валя. На полу стояли бочки с селедкой, из которых тянуло пряной остротой. На полках макароны «рожки», гречка, пакеты с сухим киселем, банки с болгарским лечо. У витрины с конфетами-подушечками и ирисками всегда толпилась ребятня.
Мария пришла за растительным маслом и спичками. И уже у кассы, расплачиваясь, почувствовала на себе острый, оценивающий взгляд. Оборачиваться не хотелось, но она все же обернулась.
Зина стояла в проходе, прислонившись к стеллажу с галантереей. На ней было ярко-зеленое крепдешиновое платье, обтягивающее пышные формы, и туфли на невероятно высоких каблуках, неуместных для деревни. Рыжие волосы были взбиты в высокую, прическу, лицо густо набелено и нарумянено. Она смотрела в сторону Марии с откровенным, ядовитым презрением.
– О, Машка-просташка, – протянула Зина хриплым, прокуренным голосом. – Засваталась к хорошему мужику, значит. Как поживаешь в новом доме? Не скучно Петруше-то с такой серой замухрышкой? Я уж думала, он от тоски с тобой сдохнет.
Она не сказала прямым текстом: «Я его любовница». Но это висело в воздухе, густело в ее наглом, влажном взгляде, в этой фамильярности «Петруша». Каждая черта Зины кричала о том, что она знает Петра с другой, интимной стороны. Знает, каков он в темноте, наедине. Она была насквозь пропитана этим знанием, истекала им, как ядовитым соком.
У Марии перехватило дыхание. Щеки ее пылали, а внутри все сжалось в ледяной, болезненный комок. Все светлое, теплое, что накопилось у нее внутри за эти недели, будто выморозилось одним махом. Она снова стала той самой – уродливой, жалкой, серой. Рядом с этой размалеванной, яркой, грубой красотой она чувствовала себя существом другого, низшего порядка. Слова, которые могли бы дать отпор, застряли комом в горле. Мария смогла только опустить глаза, судорожно сжать авоську с покупками и, бросив на прилавок мелочь, почти выбежать из магазина.
Она шла домой, и по щекам текли горькие, обжигающие слезы. Но странное дело – сквозь боль и унижение пробивалось другое чувство. Не ревность в ее классическом, яростном понимании. А боль. Глубокая, ноющая боль от мысли, что он, ее Петр, мог прикасаться к «этой». Что его руки, такие сильные и бережные, когда он чинил забор, могли касаться этого развратного тела. Что он, такой молчаливый и сдержанный, мог искать утешения в такой грубой, громкой, пустой красоте.
Это была та же грязная боль, что была с Василием, но теперь – от обратного. Тогда ей было противно за себя. Теперь – за него. Как будто что-то чистое и дорогое, едва найденное, оказалось запачкано.
И эта боль странным образом подтверждала то, что она сама в последние дни начала чувствовать. Если бы он был ей безразличен, слова Зины её бы не задели. Но они ранили. Значит, Петр уже не был для нее просто спасителем и хозяином дома. Он становился её мужчиной. И мысль, что у него было прошлое, что он мог сравнивать ее, бледную и тихую, с этой огненной Зиной, причиняла почти физическую муку.
Мария вернулась домой, умыла лицо ледяной водой из колодца и долго сидела на лавке в сенях, глядя перед собой. Потом встала, прошла в свою комнату и взяла в руки подаренный Петром васильковый сатин. Ткань была мягкой, утешительной. Мария прижала ее к щеке.
Он принес это ей! Не Зине. Ей, Марие. И попросил сшить платье. Петр смотрел на нее в бане не как на чужое, а как на своё. Пусть пока неясно, пусть стыдливо, но он смотрел.
Мария вытерла последние слезы, разложила ткань на столе и достала портновский мел. Руки еще дрожали, но в душе, под слоем боли, уже пробивалась новая, более крепкая и горькая решимость. Она не знала, что было между Петром и Зиной раньше. Но теперь он был ее муж. И ее дом. И она не отдаст это без боя. Тихого, своего, женского боя – стежок за стежком, вареник за вареником, теплым взглядом. Она возьмет своё! Она сошьет это платье, оно будет самым красивым. И она наденет его для Петра. И пусть весь мир, и особенно Зина, видят, чья она жена.
Глава 8 (Петр). Мосты
Зина подкараулила Петра у конюшни, когда он выводил Рыжку на водопой. Вышла из-за угла, будто случайно, но всё в ней было неестественно и нарочито: слишком яркий платок, слишком вызывающая улыбка.
– Петруша, а я уж думала, ты совсем к своей немурыке приклеился, – начала она томно, закуривая, и дым струйкой пошел ему в лицо. – А ты по мне скучаешь.
Он молча отворил калитку, пропуская коня.
– Ну что ты такой кислый? – не унималась Зина, делая шаг ближе. От нее пахло дешевыми приторными духами и перегаром с утра. – Зря ты, знаешь ли, с этой Машкой-хохоряшкой связался. Жалко на неё смотреть. И тебя жалко. Я тебе как подруга говорю – не доведёт она тебя до добра. С ней же скука смертная.
Петр остановился. Не оборачиваясь, резко, почти отрывисто бросил:
– В мои дела не лезь, Зинаида. Занимайся своими.
Его голос, всегда ровный и глуховатый, прозвучал как удар плетью. Он сам удивился этой резкости. Но отвращение поднялось комком в горле. В словах Зинки, в этом высокомерном «жалко на неё смотреть», он услышал отзвук давней боли. Так же свысока, с тем же пренебрежением к его «медвежьим повадкам» когда-то смотрела на него красавица Оксана. Пустота, обернутая в яркую обертку. Фальшь. Он повернулся и посмотрел Зине прямо в глаза. Смотрел молча, долго, пока её дешевая брава не начала трещать по швам, сменившись растерянностью.
– Да пошла ты! – тихо, но так, что каждое слово было как гвоздь, сказал он и, развернувшись, повел коня к речке. Спиной он чувствовал ее уничтожающий взгляд, но на душе было пусто и спокойно. Мост с прошлым был не просто сожжен – он рассыпался в труху, и Петр даже не обернулся посмотреть на пепел.
«И на что она, дура, рассчитывала-то?» – пронеслось в голове уже на ходу, пока он вёл коня к реке. Не то чтобы он раньше не думал. Думал. Знали её с детства, Зинку,