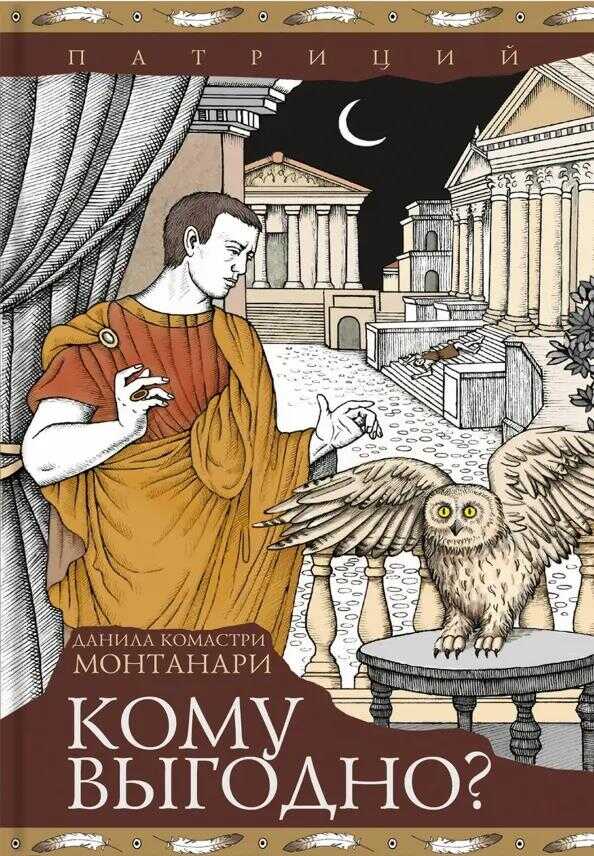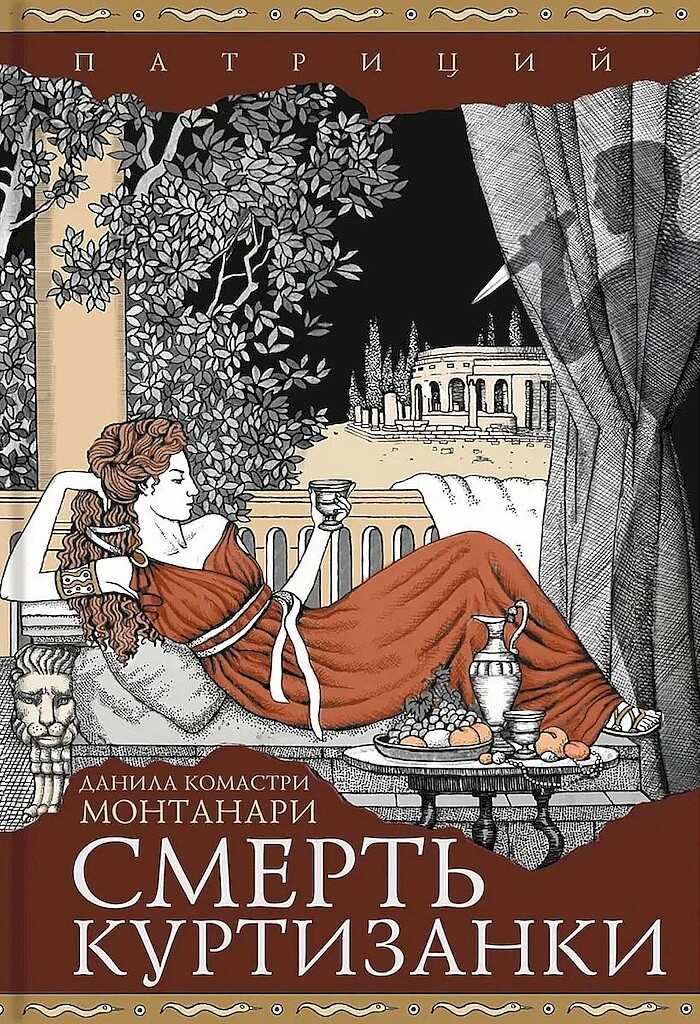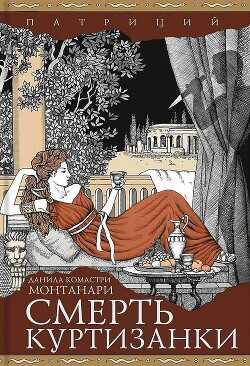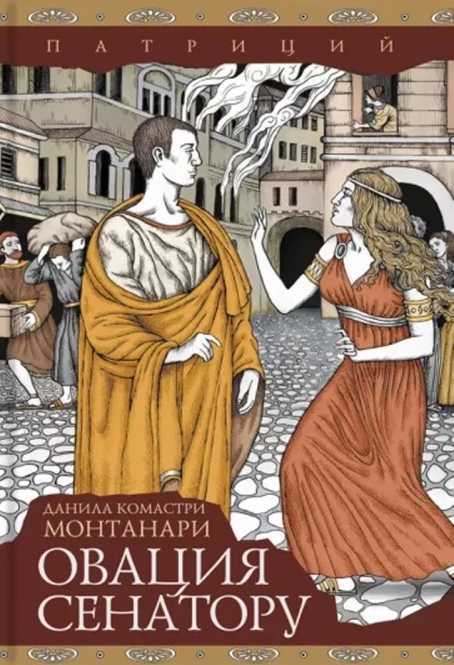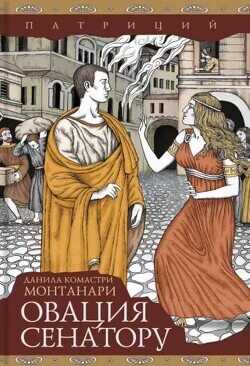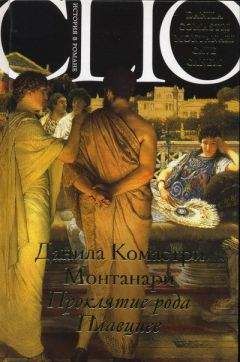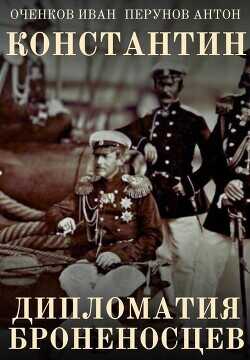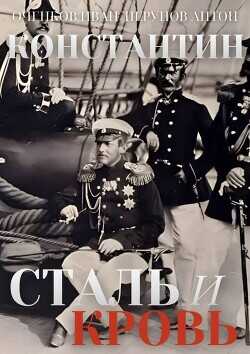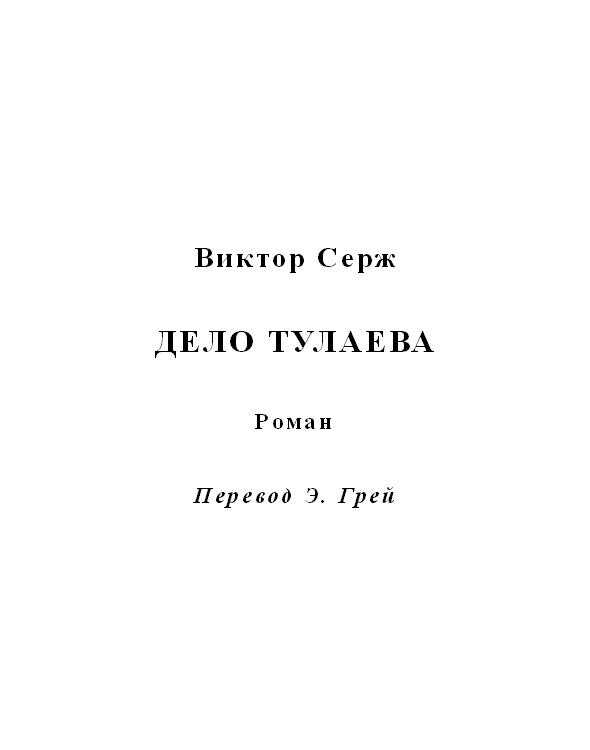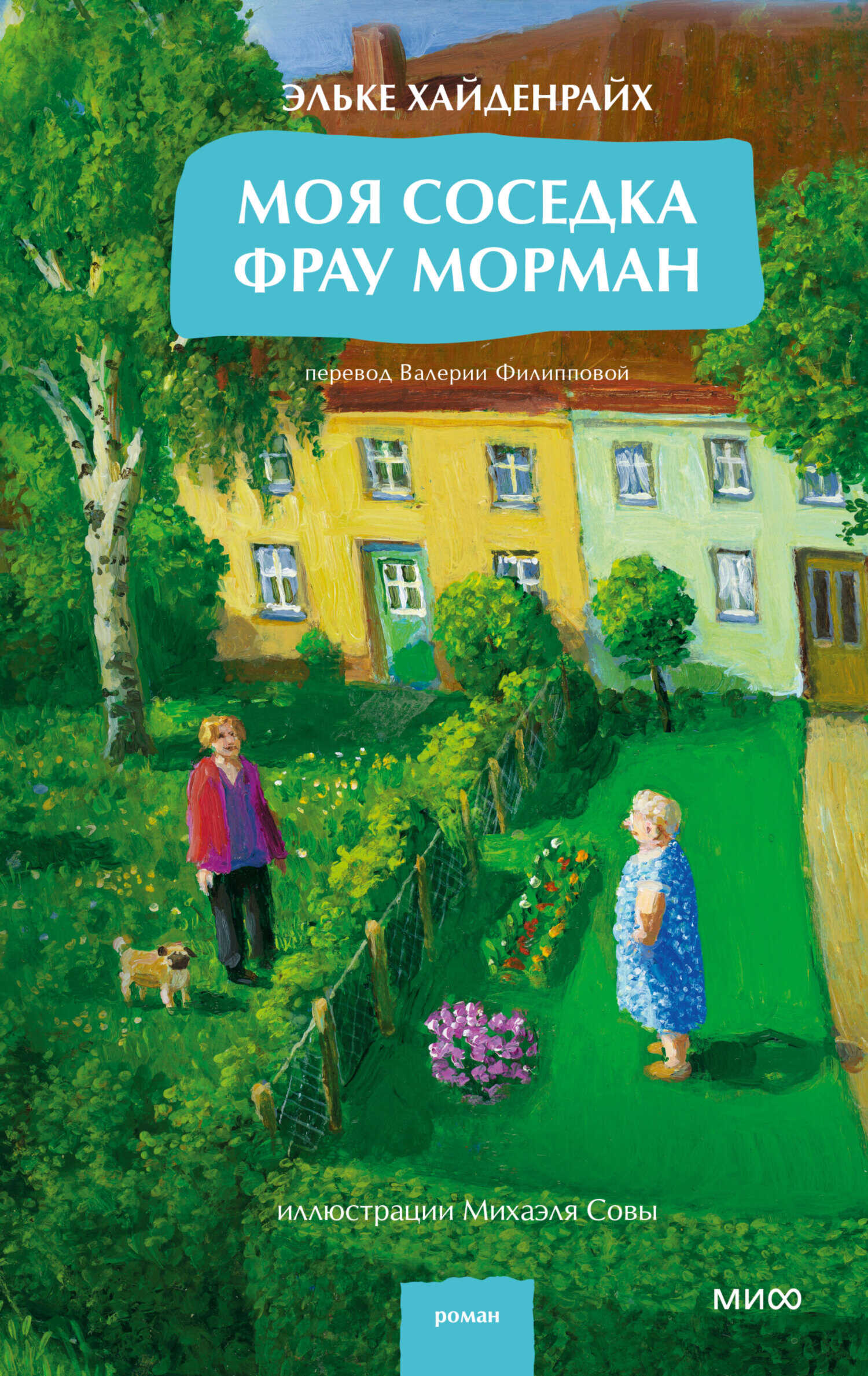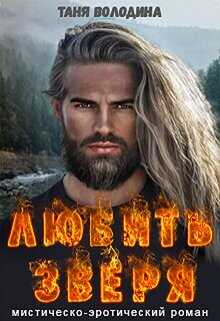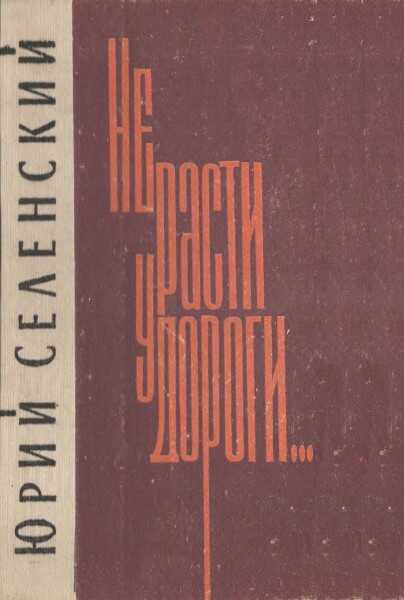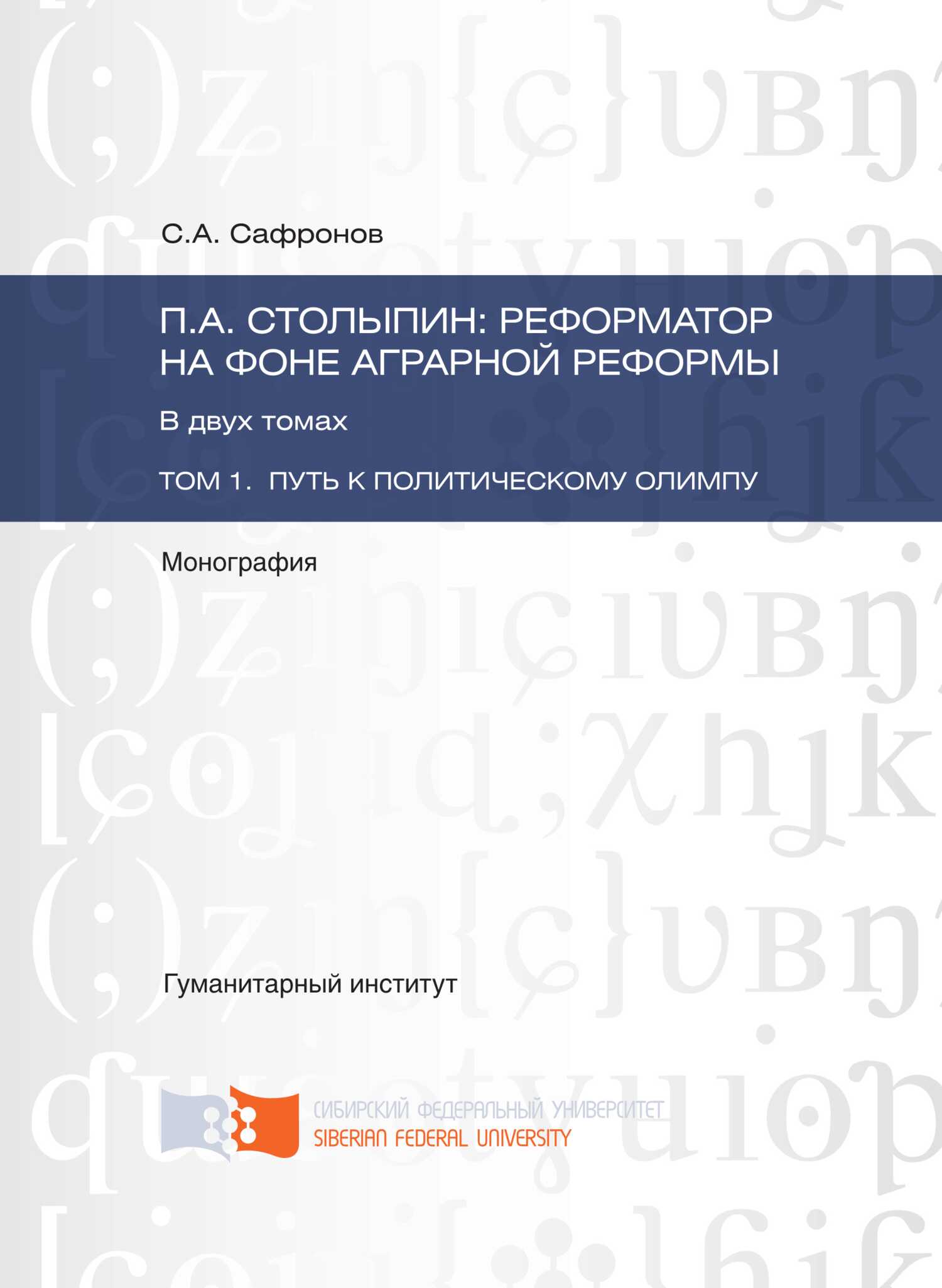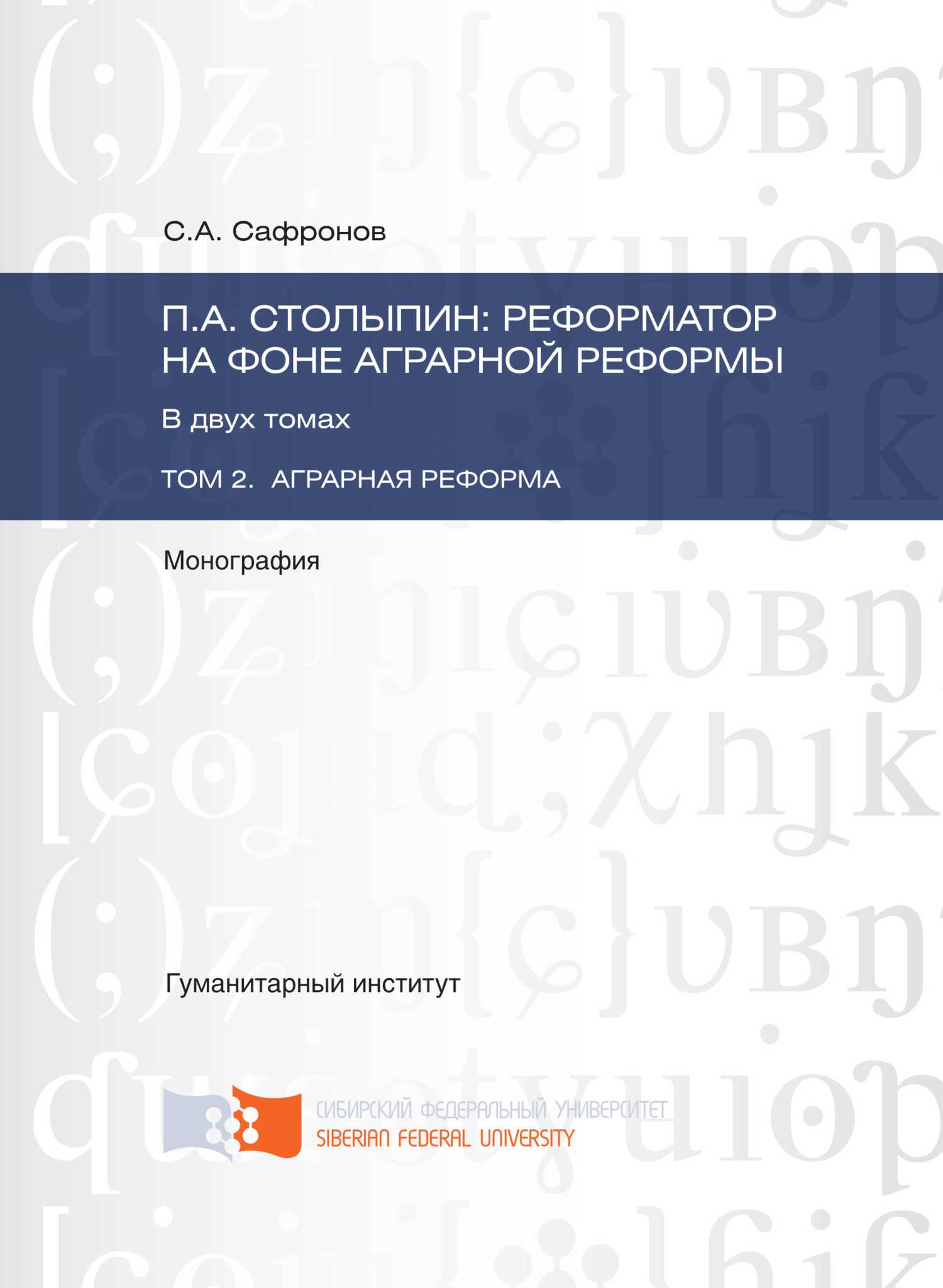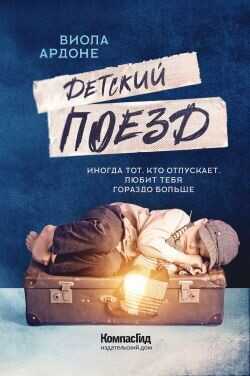Шрам на бедре - Данила Комастри Монтанари
Аврелий уже готов был осыпать проклятиями всех бессмертных неба, моря и подземного мира, как вдруг занавеска отодвинулась, и в окне показалось лицо без вуали. Мешочек с бобами упал на землю, а патриций так и остался стоять с открытым от удивления ртом.
У обладательницы фиолетового плаща оказался хорошо знакомый профиль Юнии Иренеи.
Когда паланкин удалился, Аврелий, обуреваемый тысячами вопросов, поспешил обратно на улицу, что вела к дому Панеция.
Глупо было думать, будто Иренея его любовница. Что могла найти в этом уволенном провинциальном учителе знаменитая учёная дама, подруга принцев и властителей? Кроме давней тайной любви к Лучилле, между ними не было больше ничего общего.
Иренея — напористая и отважная вплоть до дерзости, и Панеций — скрытный, замкнутый, способный подолгу вынашивать застарелую злобу, давние разочарования, реальные или воображаемые оскорбления.
Соединять их могла бы только какая-то постыдная тайна, некий груз вины, слишком тяжёлый, чтобы нести его в одиночку. Возможно, убийство.
Аврелий постучал в дверь эфесянина, ещё плохо представляя, что скажет. Он рассчитывал, встретившись с ним лицом к лицу, прочитать на нём затаённое признание, приметы страстей, которые когда-то волновали его ум и, возможно, подтолкнули на преступление.
Панеций, казалось, удивился его появлению, но тем не менее принял вежливо, усадил в таблинуме за стол, на котором лежало множество восковых, испещрённых цифрами дощечек.
Аврелий с любопытством посмотрел на греческие буквы и геометрические фигуры на пугилла-рисе[81].. Выходит, всё же именно научные интересы сближали Юнию Иренею и эфесянина…
Открытие порадовало патриция. Кроме очень большого уважения, которое питал к этой женщине, он был ещё и очарован ею, и только необъяснимое, беспричинное увлечение Камиллой помешало ему строить в отношении неё какие-то серьёзные планы.
Панеций тем временем позвал слугу, чтобы тот освободил стол и принёс хлеб и соль — символы гостеприимства — вместе с корзинкой сухофруктов и двумя чашами горячего вина.
Учёный муж, одетый в простую тунику, казалось, чувствовал себя намного свободнее, встречая гостя таким достойным и скромным образом, чем когда появлялся на публике в безупречно элегантном облачении.
— Ты принимаешь меня как гостя, Панеций, но я пришёл как магистрат, чтобы допросить тебя, — сразу разъяснил Аврелий, ожидая, что он тут же проявит готовность сотрудничать.
Но реакция вольноотпущенника оказалась резкой и неожиданной:
— В таком случае, сенатор, должен сказать, что хоть мне и нечего скрывать, я всё равно не стану отвечать на твои вопросы. Существует немало вещей, которые мне хотелось бы оставить при себе, а ты уже и так проявил даже слишком большое усердие и мастерство, выпытывая из меня признания.
«Нет, так просто ты от меня не отделаешься, — подумал Аврелий. — Согласен, необходимо уважать личную жизнь, но у меня два нераскрытых убийства».
— Помнишь процесс, который затеяла семья Элия против Арриания девять лет назад? — решительно заговорил он.
— Помню, — коротко ответил эфесянин.
— Ты ведь признал этого юношу и свидетельствовал против него, не так ли?
— Да, — глухим голосом ответил Панеций, и сенатор ожидал, что он продолжит разговор.
Однако учитель, похоже, не собирался этого делать, и нетерпеливому Аврелию пришлось использовать все своё самообладание, чтобы сдержать тот ворох вопросов, которым хотелось засыпать его, и он стал молча ждать.
— Я дал ложные показания, — наконец произнёс вольноотпущенник. — И готов был сделать всё что угодно, только бы угодить Аррианию в надежде, что он поблагодарит меня за это.
— Однако впоследствии ты обнаружил, что ритору нет никакого дела ни до тебя, ни до твоей преданности. С его точки зрения ты появился лишь для того, чтобы совершить несправедливость, и за это заслуживаешь осуждения. Отвечал за всё и всегда только он один, Аррианий, который точно так же, как и его дочь, использовал тебя, обманул твои ожидания и насмехался…
— Считай как хочешь, — развёл руками Панеций.
— Посмотри внимательно на эти письма, — попросил патриций, протягивая ему три папируса.
Вольноотпущенник взял их, и, по мере того, как читал, на лице его появлялась жестокая и мрачная усмешка:
— Наконец-то кто-то заставил старика расплатиться! — злорадно воскликнул он. — Интересно, долго ли он страдал перед смертью!
— Мне известно, Панеций, кто написал первые два. Третье письмо подбросили до убийства, а не после, и его мог написать только убийца. А кто ещё, кроме тебя, знал почерк этого юноши?
— Ну, прежде всего он сам, потом ритор, все его коллеги и даже Лучилла, она была в курсе той истории, хотя и всячески отрицала это…
— Ты говорил мне об этом в библиотеке. Напомни, пожалуйста…
— Утром в день её смерти, когда я разговаривал с ней, она притворилась, будто ничего не знает об отношениях Оттавия с её отцом. Я сказал ей, что нет смысла отрицать очевидное, то есть утверждать вместе с Зеноном, что Ахилл не может обогнать черепаху. Лучилла с таким удивлением посмотрела на меня, словно не поняла, о чём я говорю, и захлопнула дверь перед моим носом.
— Ты последний, кто видел её живой, — попытался озадачить его Аврелий.
— Ты лжёшь. Потом она ещё разговаривала с женихом, а кроме того, сестра и служанка видели её позднее в ванной.
— И всё же одна плакальщица утверждает, что девушка умерла намного раньше этого момента. А ты достаточно худощавый, чтобы Камилла и служанка могли принять тебя за женщину, если видели только со спины, завёрнутого в простыню. Оттавий, напротив, слишком крупный и мускулистый для того, чтобы сойти за девушку. К тому же ты точно знал, где Аррианий держит кувшины.
— Если, по-твоему, я мог отравить вино, то ведь точно так же это мог сделать и наш молодой грамматик, — уточнил эфесянин, с трудом скрывая злобу.
— Да, но при всех возможностях, какие были у него, он мог сделать это той ночью, когда они оставались дома вдвоём. Яд, введённый в кувшин через пробку, похоже, указывает на кого-то, кто надеялся отсрочить убийство, спутать…
— Я не тот, кого ты ищешь, сенатор, поэтому не вижу причины продолжать наш разговор, — прервал его Панеций, вставая. — И теперь послушай меня внимательно: это последний раз, когда я соглашаюсь иметь с тобой какие-то дела. Обвини меня в убийстве, если хочешь. Но не приходи ко мне больше, не досаждай мне. Ты позволил себе копаться в моей жизни, как в ещё не зажившей ране, воспользовался моей слабостью, заставил стыдиться самого себя. Тебе этого мало, и теперь пытаешься приписать мне преступление!
Патриций в недоумении смотрел на него. Эфесянин казался незлобивым человеком, но обычно именно такие люди, когда у них кончается выдержка, совершают необычные и непоправимые поступки…
— В любом случае,