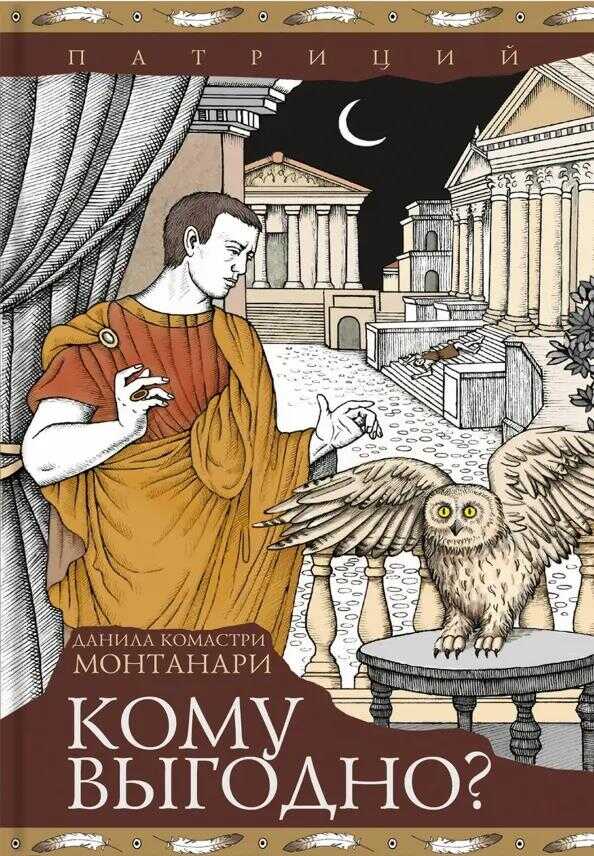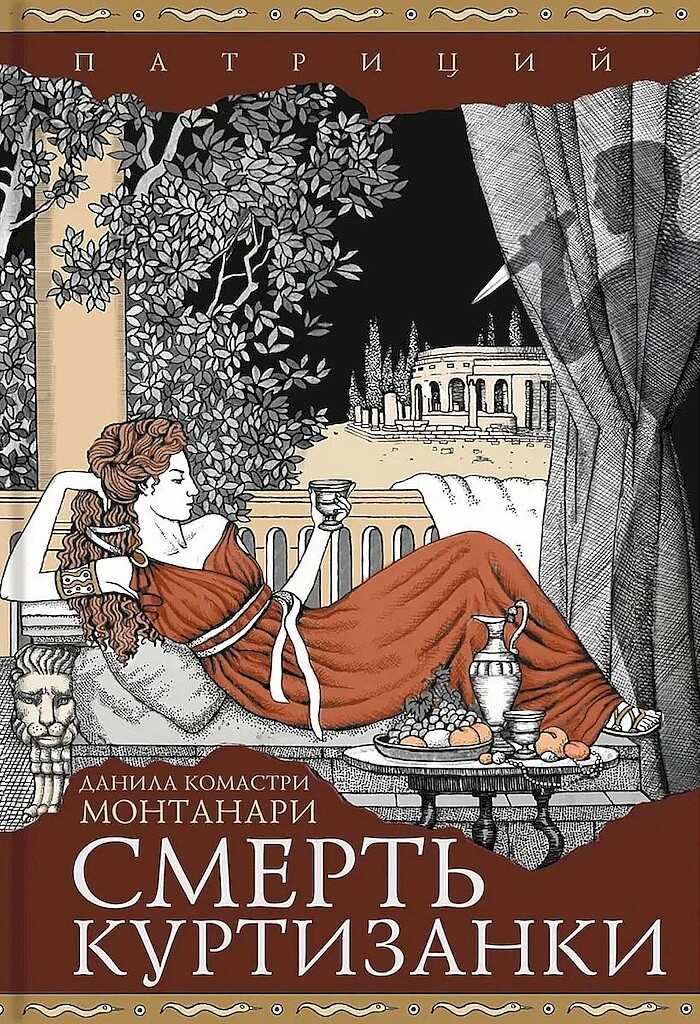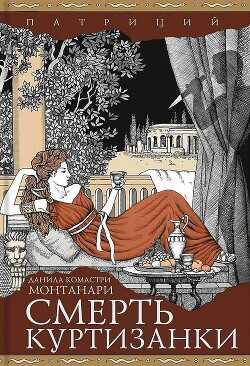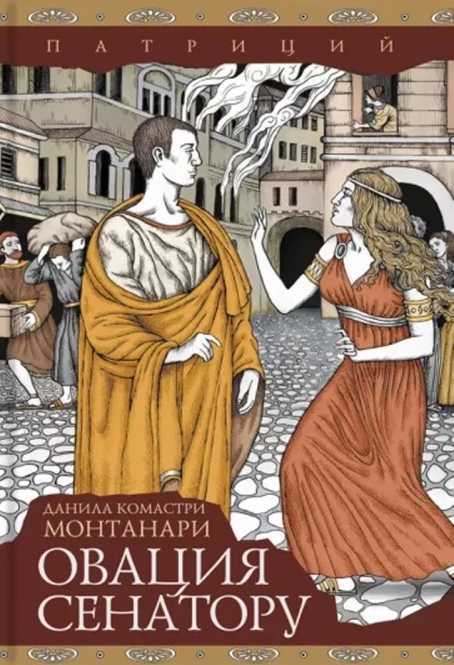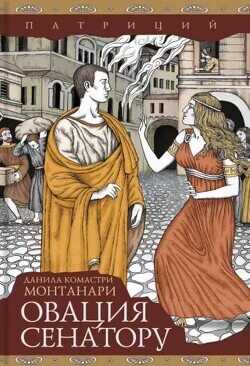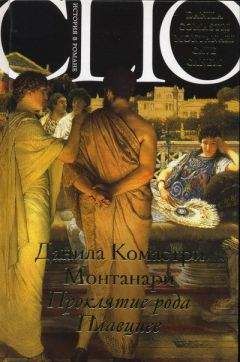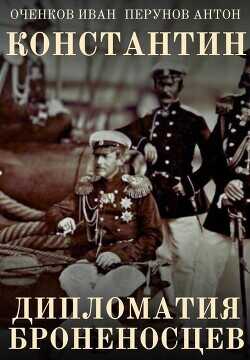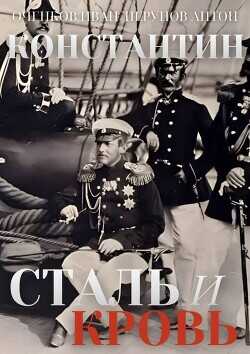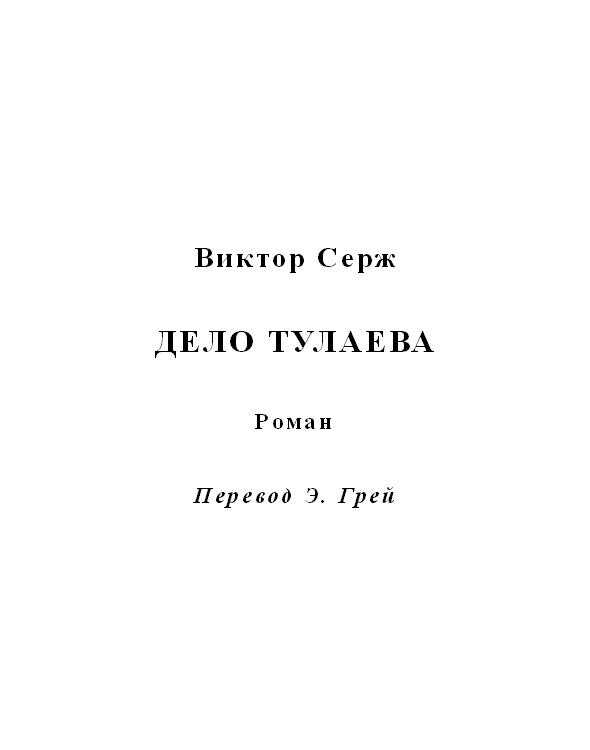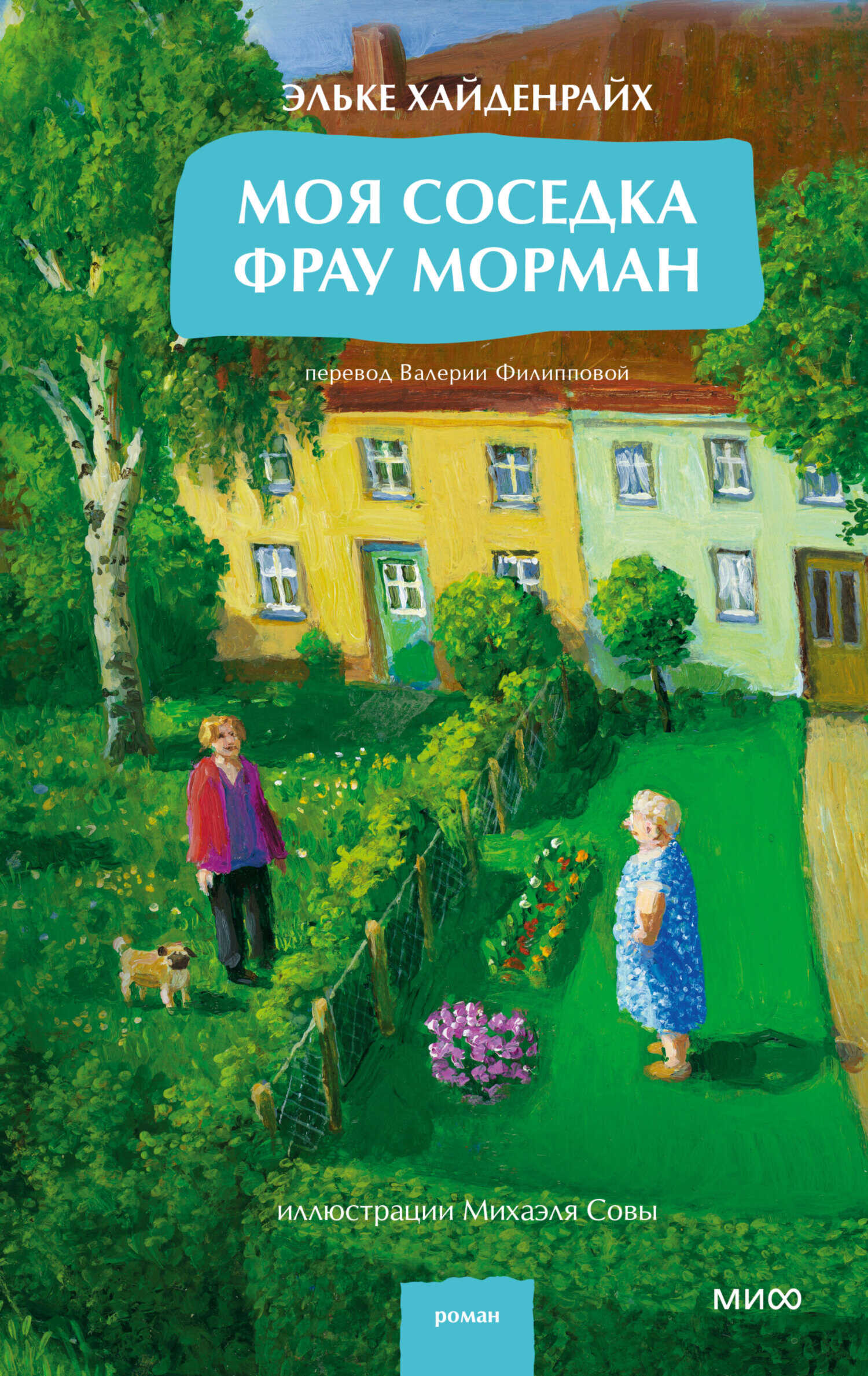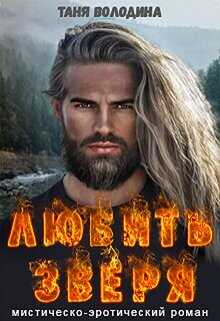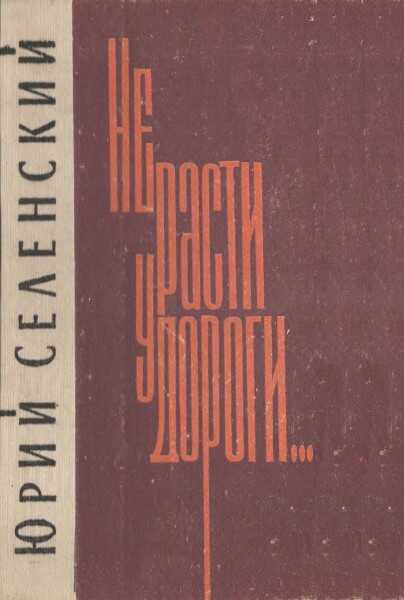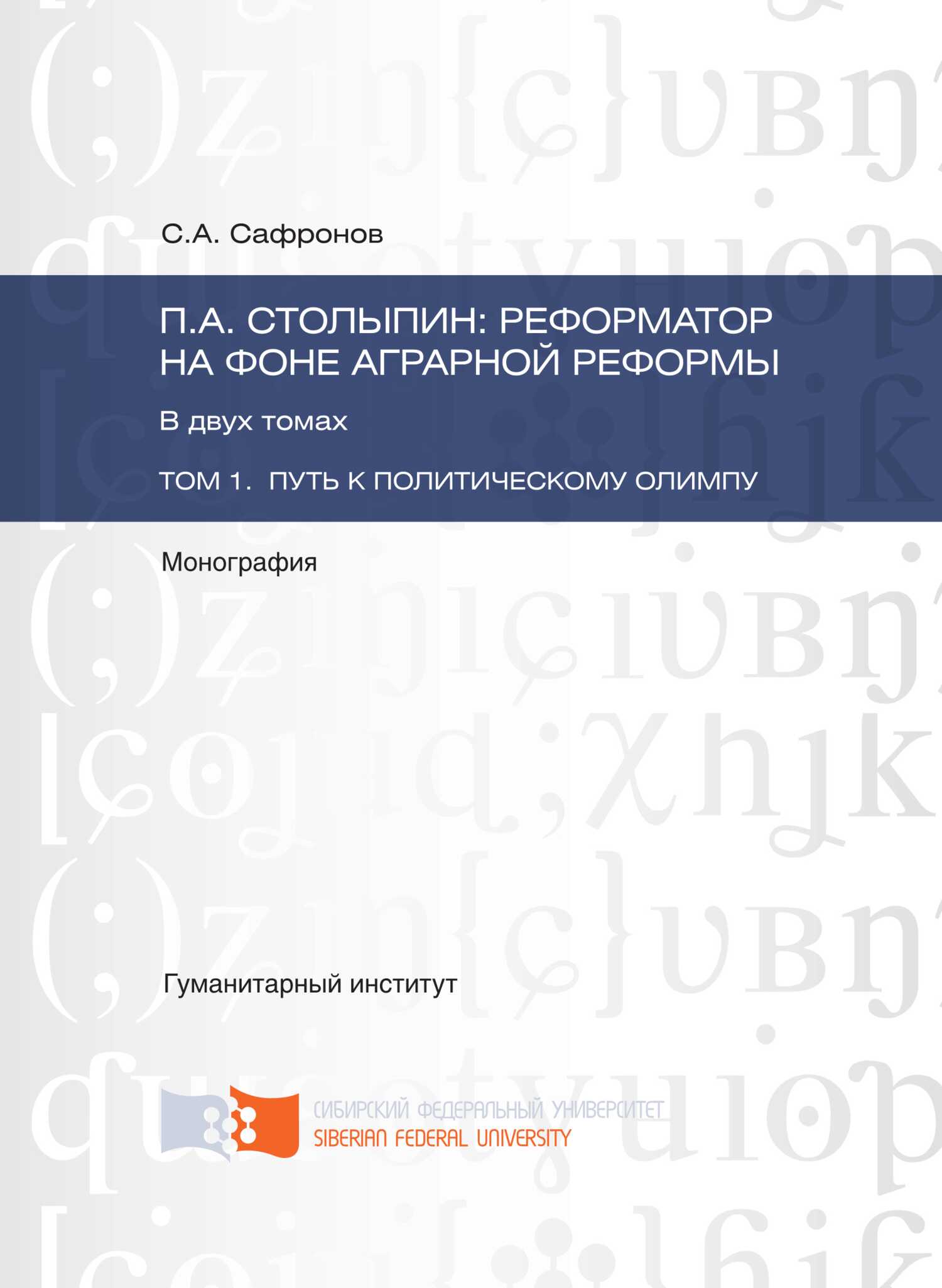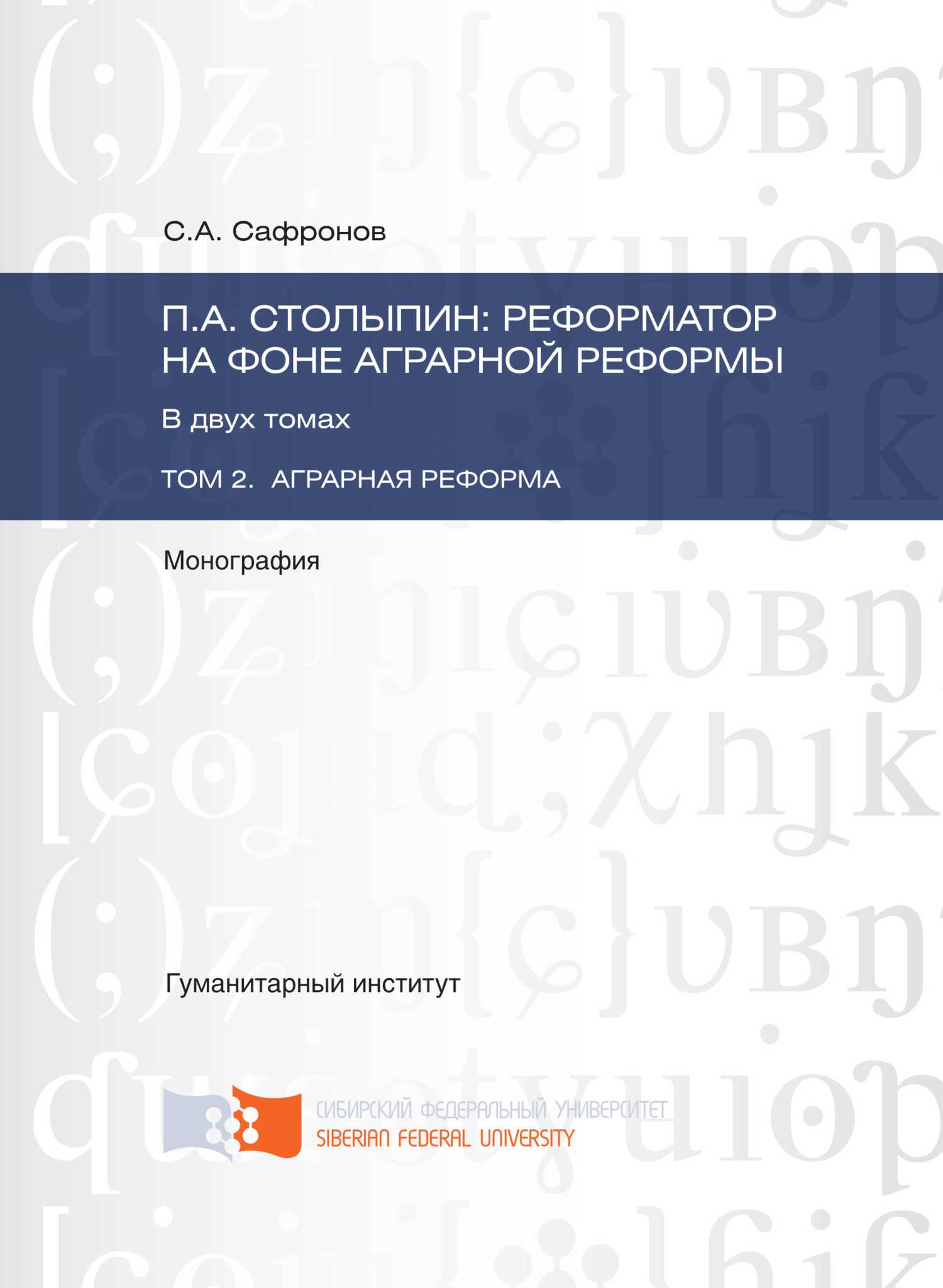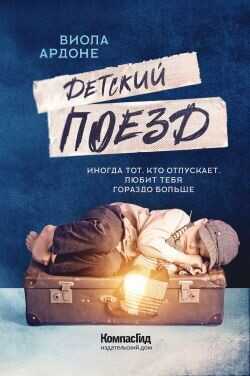Шрам на бедре - Данила Комастри Монтанари
— Подожди минутку, прошу тебя, папа! Хочу дочитать последний отрывок! — взмолился мальчик.
— Ты сделал большие успехи в последнее время, Манлий. Закончи это упражнение по греческому языку. Твой отец подождёт со мной, — отпустил его Аврелий таким властным тоном, что старьёвщик не посмел возразить.
— Наверное, я поторопился с суждением… — в смущении проговорил он.
«Он сошёл с ума, так нападая на важного человека, который при желании может заставить его дорого заплатить за это», — подумал Аврелий, но тем не менее поинтересовался:
— Что ты имел в виду, когда говорил о школе?
— Ну, как обычно, ходят слухи, будто часть учеников пользуется особыми привилегиями. Мне неприятно говорить это, но есть родители, готовые на всё закрыть один глаз, а то и оба, лишь бы обеспечить будущее детей.
— Наверное, речь идёт о необоснованных сплетнях. Они существуют в каждой школе с тех пор, как в Рим прибыли первые афинские учителя. Город всегда опасался, что влияние Эллады испортит его строгие нравы.
— Может быть, но на Арриания однажды уже доносили, и тогда речь шла не о пустой болтовне, я хорошо помню тот случай — настоящий позор! У мальчика были компрометирующие письма, которые ритор писал ему, и уверяю тебя, этого было вполне достаточно для суда. Но естественно, когда бедняк обращается в суд против видного человека, способного к тому же оплатить лучших адвокатов, выиграть дело невозможно. И Элия обвинили в том, что он дал ложные показания. Его семье пришлось уехать из Рима и вернуться в Нуману![61]
— Как, ты сказал, звали того ученика? — насторожился патриций.
— Элий… А дальше не помню. Это было почти десять лет назад.
«Элий! — в волнении подумал патриций. — Ученик Арриания тоже принадлежал клану Кор-виния и Николая…»
— Но если не доверяешь школе, почему не заберёшь Манлия оттуда? — спросил он в растерянности.
Торквато опустил глаза и уставился на свои ноги, выпачканные в грязи.
— Какая разница, все они одинаковы, а в школу ходить нужно. Он ведь не сможет работать, как я, со своей больной ногой. Моя бедная покойная жена подарила мне пятерых детей, но случилась эпидемия, и теперь у меня остались только Манлий и Квартилла.
— О девочке не беспокойся, она не больна, — вырвалось у Аврелия, и прежде, чем Торквато успел спросить, откуда он это знает, разговор прервал Парис, войдя без разрешения, что смел делать только в исключительном случае.
— Господин, тут… — произнёс управляющий, но сразу же умолк при виде обидчика, который заставил его хромать, а теперь мирно сидел рядом с хозяином. Он отступил и укрылся за стеной на надёжном расстоянии от этого великана.
— Раб Арриания спрашивает тебя, — нерешительно произнёс Парис. — Похоже, произошло что-то ужасное…
Патриций тотчас устремился в атриум. Следовательно, ритор был прав, опасаясь за свою жизнь. Видимо, на этот раз покушение достигло своей цели!
— Что случилось с твоим хозяином? — спросил Аврелий плачущего слугу.
— С Аррианием всё в прядке, благородный сенатор, но его мать… Испуллу Камиллину нашли мёртвой в её комнате!
Аврелий вошёл в таблинум и некоторое время молча смотрел на неузнаваемого Арриания, закрывшего лицо руками, без стеснения всхлипывавшего, небритого, с воспалёнными глазами, в траурной тоге из тёмной, грубой шерсти. В этом убитом горем человеке ничего не осталось от того ритора, который обычно выражал свои чувства, с холодным высокомерием цитируя разные умные пословицы и поговорки.
— Она ушла, Аврелий. Она никогда не уважала меня, и теперь уже ничего не исправишь.
Патриций нисколько не удивился отчаянию ритора. Все великие люди Рима, даже самые циничные, трепетали перед своими августейшими родительницами и опасались их осуждения. Кориолан[62] отказался от намерения предать Рим только из-за возможного презрения своей матери Ветурнии; император Тиберий, будучи уже пожилым, не решался открыто противостоять Ливии; даже дерзкий и непочтительный Юлий Цезарь, готовый смеяться над людьми и богинями, питал уважение к строгой Аврелии.
— Мужайся! — призвал патриций ритора. — Это должно было произойти, к сожалению…
— Нов этом же я виноват, как ты не понимаешь? — воскликнул потрясённый Аррианий. — Сначала Лучилла, теперь она!
— Слуги уверяют, что Испулла ушла спокойно, во сне, — заметил патриций.
— А если им это лишь показалось? — не очень уверенно возразил ритор.
— Позволь моему врачевателю осмотреть тело, если хочешь быть уверен. Это знаменитый Иппаркий Цезарий, и уверяю тебя, он своё дело знает.
— Хорошо, боюсь только, что он подтвердит мои подозрения: мать умерла не своей смертью.
— Почему ты так думаешь? Ведь Испулла была очень стара.
— Мы с ней обычно проводили вечером некоторое время вместе. Ей нравилось беседовать со мной, хотя мне порой с трудом удавалось разобрать, что она говорит. К концу жизни у людей накапливается столько воспоминаний, что иногда человек утрачивает ощущение времени. И старики нередко говорят о событиях, случившихся многие годы назад, так, будто они произошли накануне, и потому их трудно бывает понять. Вчера, например, моя мать упомянула о серёжках с полулуниями, которые мы подарили Камилле на свадьбу, но из-за помутнения рассудка говорила почему-то о свадьбе Лучиллы, забыв, видимо, что она умерла…
Странно, подумал Аврелий, у Испуллы было необыкновенно ясное сознание, когда он разговаривал с ней несколько дней назад…
— Она и тебя упомянула, — продолжал Аррианий, — только я не понял, в связи с чем. Уже засыпала и бормотала что-то о какой-то родинке или шраме, не помню точно… А потом сразу уснула, чтобы больше не проснуться.
— Она принимала какое-то снотворное, может, пила какой-нибудь успокоительный отвар? — с подозрением спросил патриций.
— Нет, сенатор, разве что глотнула вина из моего же кувшина.
— Тогда откуда столько сомнений?
— Сегодня утром я вошёл в её комнату, чтобы положить, как принято, в рот покойницы монету для Харона. И когда смотрел на неё, такую маленькую, усохшую в своей постели, всё повторял себе, что она умерла без страданий. В её кровати я нашёл вот это… — Аррианий разжал ладонь, и на ней оказался крохотный, грубо обработанный тёмный камушек миндалевидной формы с тремя округлыми выступами — два наверху и ниже один более крупный.
— Узнаёшь? — спросил ритор дрожащим от страха голосом.
— Нет, — солгал Аврелий, сразу же вспомнив уродливую статуэтку — примитивное изображение беременной женской фигуры. Едва обозначенная голова была незаметна, она словно утопала в огромном животе. Возле этого плодородного чрева жизни, которому незачем ни думать, ни размышлять, чтобы выполнить своё главное предназначение, всё остальное — политика, искусство, философия, война