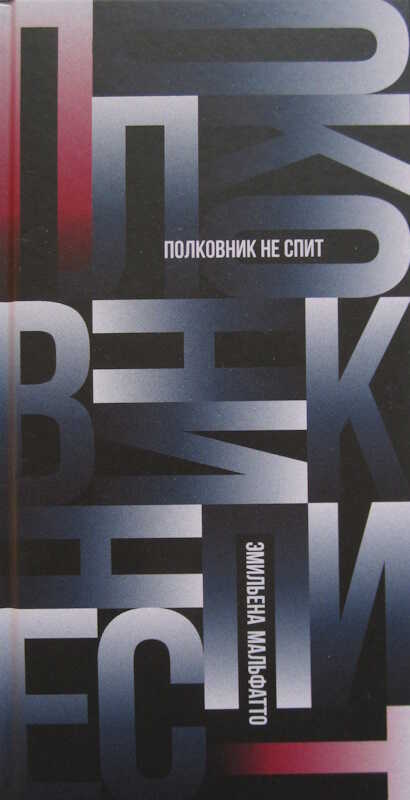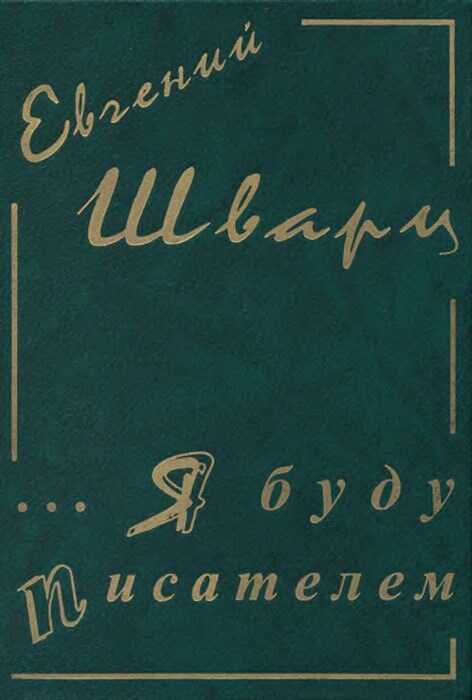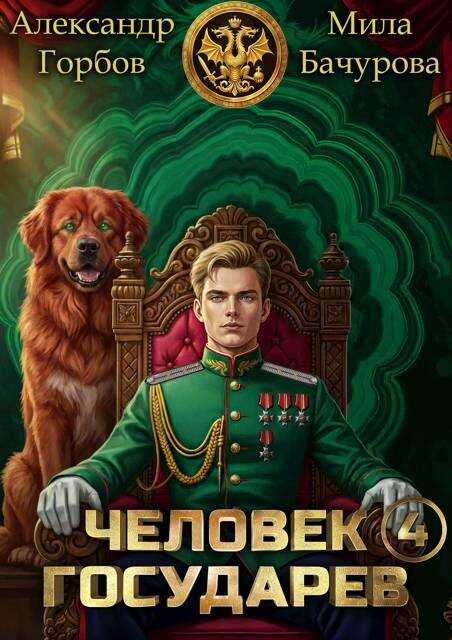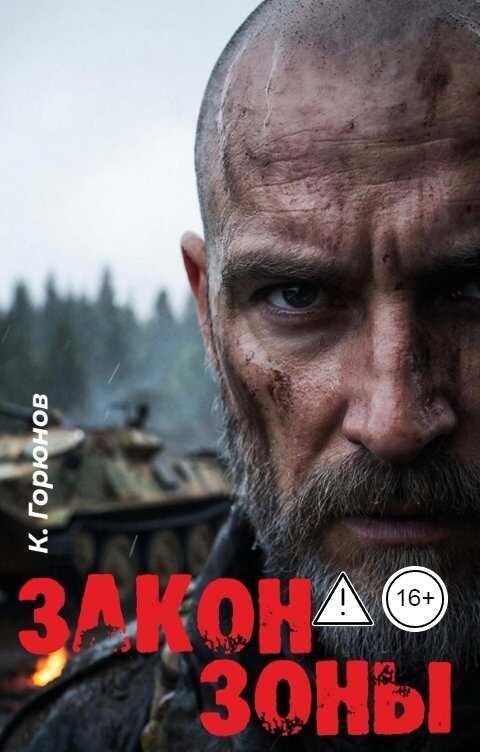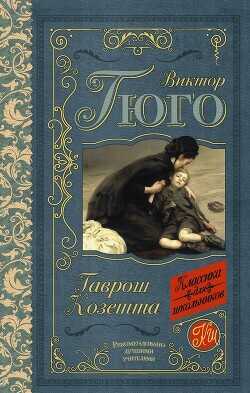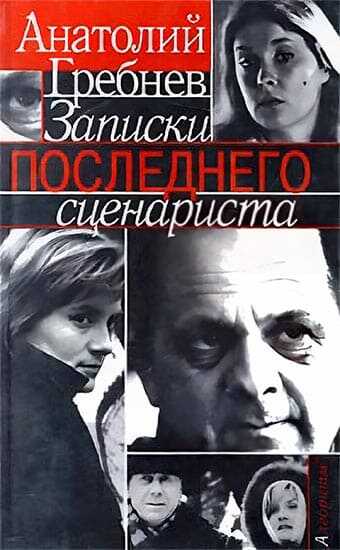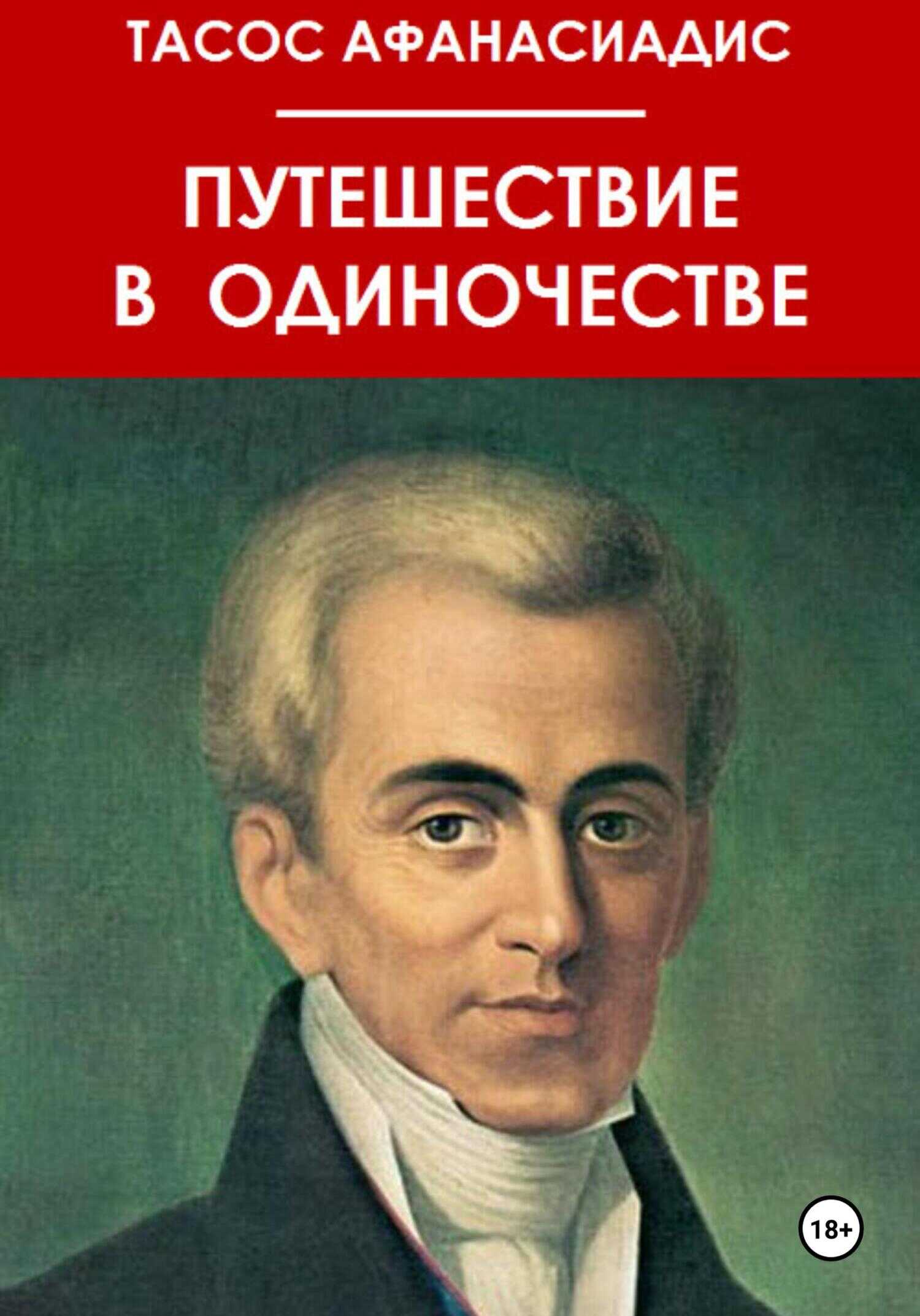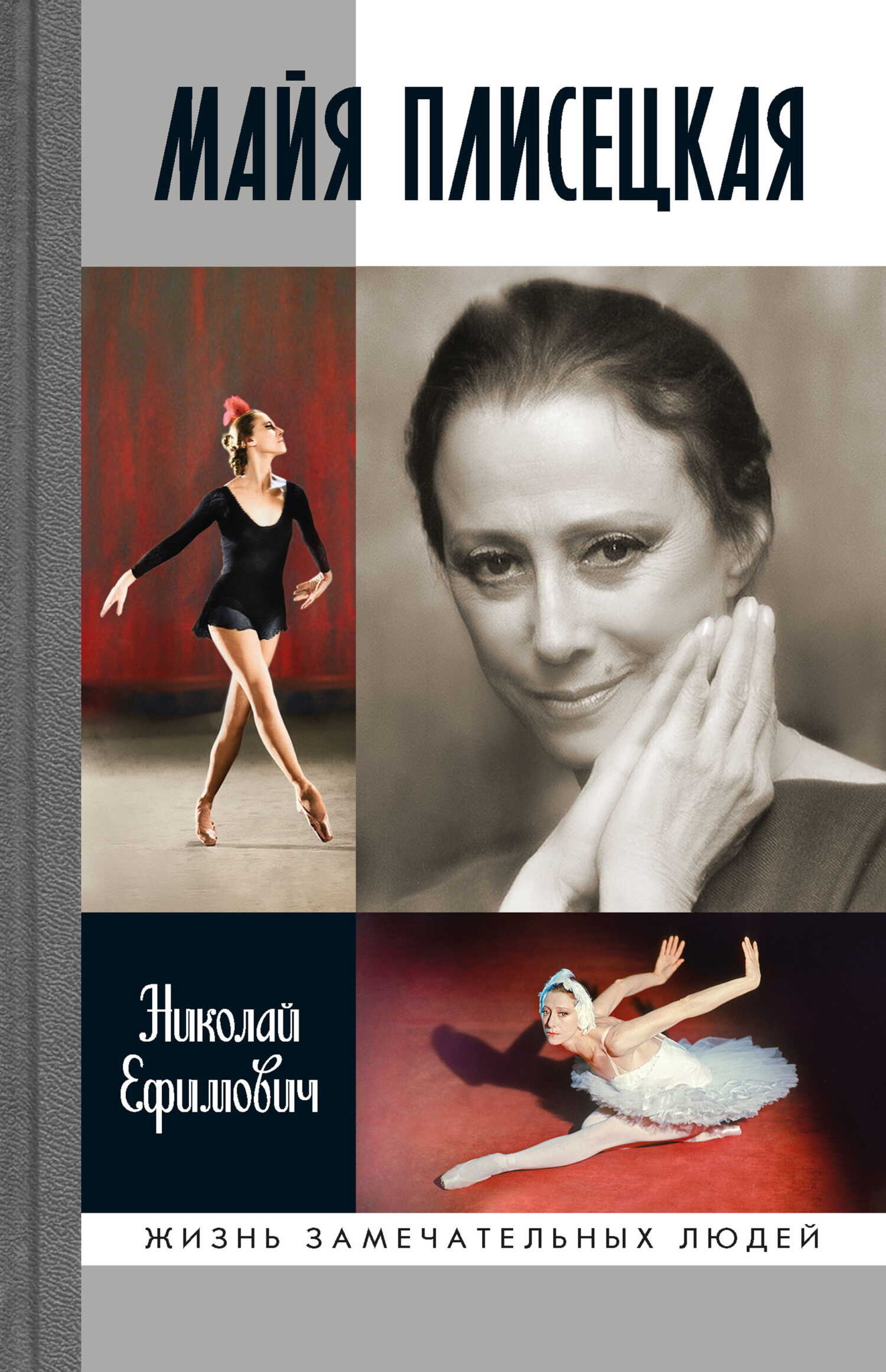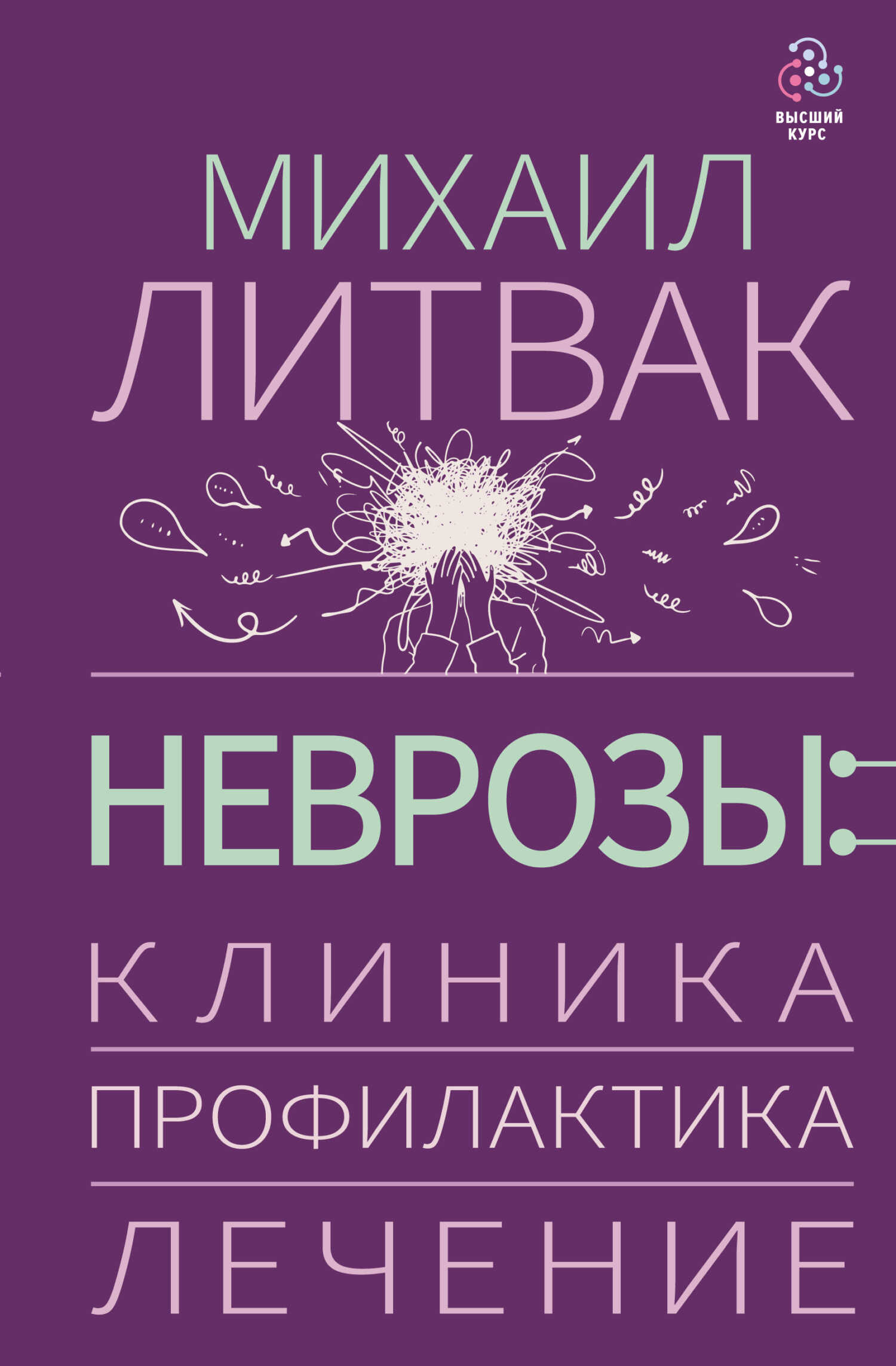Юрий Кублановский - В световом году: стихотворения
В МАРТЕ 1965 ГОДА
Еще стволы морозцем лачило
в лжебелокаменнодвуликой,
а уж капель грачей дурачила
и отливала голубикой.
По площадям блестели отмели,
еще не кончились занятья,
еще дельцы сердец не отняли
у храмин и хором Зарядья.
Лишь за зубцами в дымке рисовой
подложно золотили главы
и в отруби Никите Лысому
не смели подмешать отравы,
дозволив корешу опальному
в удушливом хлеву эпохи
потыкаться по-погребальному
в последние живые крохи.
Бывали утренники с просинью,
видениями, сильным жаром.
И перепутав с поздней осенью
весну, священную недаром,
вдруг залегала в гололедицу
на два десятилетья в спячку
страна, что старая медведица,
заспать смертельную болячку.
…А под Москвой за речкой снежною
и пыжиковым перелеском
уже навстречу неизбежному
глаза горели карьим блеском.
Ты не была еще единственной,
но начинало так казаться.
Пустот души твоей таинственной
еще никто не смел касаться.
АРХАНГЕЛЬСКОЕ
В.А.
Плашки листьев вморожены в лед,
чей разлив бесприданницы-ивы
перейти не решаются вброд,
наклоняя покорные гривы.
Пробивались лучи из окон
к бледногубым голубкам Ротари:
куртизанки ли видели сон,
или фрейлины в жмурки играли
— но пугала своей белизной
манекенная грудь у корсажа,
чей атлас отливал голубой
чернотой, как холодная сажа.
И косынок щекочущий газ
обегал обнаженные плечи…
Ничего не осталось у нас,
кроме щиплющей влаги у глаз,
кроме отзвуков собственной речи.
Знать, само провидение, рок
в перекошенных тапках с тесьмою
предназначили этот чертог
для прощальной размолвки с тобою.
«Для московских ребят заготовлена властью присяга…»
Памяти Александра Сопровского
Для московских ребят заготовлена властью присяга,
да не знает никто — где припрятана эта бумага.
Но недаром в испуге тетради разбухли, тонки,
и ночных папиросок в квартирах снуют колонки.
В глубине этажей
натянулись упругие сети,
потому шепотком окликаем подруг на рассвете,
погорельцами бродим тишком по арбатской золе,
и пустые бутылки, что кегли, гремят на столе.
У московских ребят
прилетевшие с севера книги
и покрытая патиной соль соловецкой вериги,
а крещенные в тридцать — повесили крестик на грудь.
Так давайте скорей собираться в таинственный путь.
Полно, братья, ходить нам в товарищах и невидимках.
Шлюзы крошевом льда переполнены в матушках Химках.
Побежала по соснам зазывная серая рябь,
и вороний галдеж подбивает ограбленных: грабь.
Никого на шоссе, кольцевых завихрениях… или
сорвались с перекрестков последние автомобили.
Копи, прииски свалок, распадки бесхозных дворов
и — миров.
У пяти пристаней
укрепляются прочные снасти,
чтобы в их полотне трепетало упрямо ненастье,
чтобы в трюмах столицы, не жалуясь на тесноту,
уносилась душа
по блаженным волнам
в пустоту.
«Признаёшь ли, Отечество, сына…»
Признаёшь ли, Отечество, сына
после всех годовщин?
Затянула лицо паутина,
задубев на морозе, морщин.
И Блаженный сквозь снежную осыпь
в персиянских тюрбанах своих
на откосе,
словно славное воинство, тих.
Человеки
те и те, и поди разреши:
где иовы-калеки,
где осклабленные алкаши,
вновь родных подворотен
отстоявшие каждую пядь.
Нам со дна преисподней
с четверенек неловко вставать.
…Расставаясь с Украйной,
пошатнулся рукастый репей,
сей дозорный бескрайних
отложившихся волн и степей.
Родовую землицу
у каких пепелищных огней,
аки хищную птицу,
нам отпаивать кровью своей?
КРЫМ
(по памяти)
…Там фосфоресцирует космос открытый
и с ним породненный прибой басовитый.
Под ситцем, готовым ожог холодить,
разлучниц тела не успели остыть.
Лабает с братвой безымянной джазбанды
небритый пахан на свету танцверанды,
то голову в плечи, то весь напоказ,
всю утварь ударных задействовав враз.
Зловеще, щемяще, таинственно, чудно
с иудиным цветом сошлись обоюдно
колючие розы в сплетенье срамном,
не ведая тоже, что будет потом.
ОСЕНЬ В СКИФИИ
…Где Овидий, завидев, спешит из сторожки,
лавровишней венчанный бедняк,
для кормежки
блудных пляжных собак,
наклоняя повинно плешивое темя,
словно тем признаваясь легко,
что и в старческой темени скудное семя
ищет, где глубоко,
кто-то выпотрошил содержимое грозных
присмиревших валов:
с перламутром толченым ракушечник слезный
вместе ждут холодов.
Сколько нежности в том, что уже потеряло
право быть на виду,
испарилось, пропало
в баснословном году!
…Словно рядом стрекочет размытая лента,
уходя в пустоту,
и латентно
в темноте на свету
вижу пригоршни позеленевшей монеты,
тот кувшин, что распили вдвоем…
Драгоценная, где ты?
И Боспорского царства поделки — браслеты
всё ль тусклы на запястье твоем?
К ПРОСЛАВЛЕНЬЮ АЛУПКИ
…Магнолий сливочных пудовые цветы;
гулка кремнистая дорога.
Но если в сторону — цепляются кусты
и колют лядвия поэта-полубога.
Замри и вслушайся!
Он утром здесь бежал
в купальню с полосатым тентом.
Ведь педантичный граф не зря его считал
бездельником и диссидентом.
Увы, от страсти нет надежных панацей.
И рококо Парни скрутило все карнизы,
когда колонны войск приветствовал Лицей
и граф ушел на фронт с благословенья Лизы.
…Когда ж с победою отважный генерал
домой вернулся невредимо,
счастливый Государь его к себе призвал
и сделал богдыханом Крыма.
Громоздкий Аю-Даг и был покрыт леском,
но рядом две скалы и ласточкины сакли
хозяин покорил стремительным броском
и выстроил дворец, как задники в спектакле.
По склонам выжженным затеял виноград,
стал экономить снег, а то была утечка.
И превратился Крым в роскошный вертоград
из захолустного местечка.
Но знают школьники, что значит саранча
в судьбе великого поэта.
Миледи, к завтраку ворвавшись сгоряча,
потупилась из-под берета.
Невозмутим на вид, но втуне зол как черт,
наместник замолчал, хотел задать вопросец,
да призадумался…
Ты жалок, полулорд,
полутатарщина и полный рогоносец!
— Купеческий корабль из греческих сторон! —
торжественно оповещают.
С подзорною трубой скорее на балкон
и видим: парус убирают
в жемчужном далеке.
Обрадован паяц,
велит свистать наверх, дает прислуге взбучку.
Купальня издали похожа на матрац.
И гений в суете графине стиснул ручку.
Совсем немногое осталось досказать:
графиня родила — тому виной Раевский.
Естественно, скандал не удалось замять,
о нем судачили Мясницкая и Невский.
…В Одессе, где каштан весною свечи льет
и мальчик по нужде сейчас зашел за кустик,
поставлен памятник.
А Пушкин в свой черед
невдалеке имеет бюстик.
И мы гуляли там! И ты была со мной!
И обезьяний крик библейского павлина
внезапно в сумерки раздался за стеной
непроницаемой жасмина.
Сквозь вереницу дней несет моя рука
— никто твоей любви небесной не достоин —
прощальный поцелуй, подобье мотылька.
Не правда ль, ты одна… ты плачешь… я спокоен.
ДОЖДЬ В КАСТИЛИИ