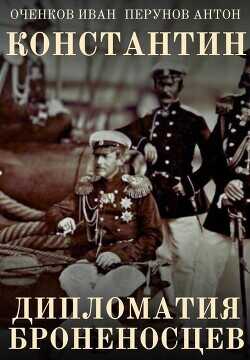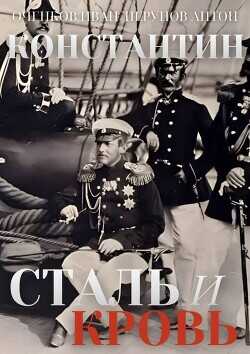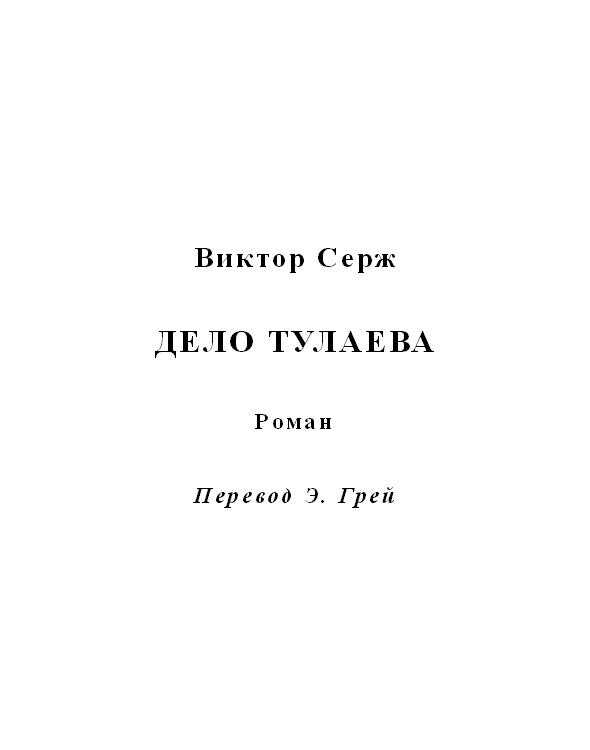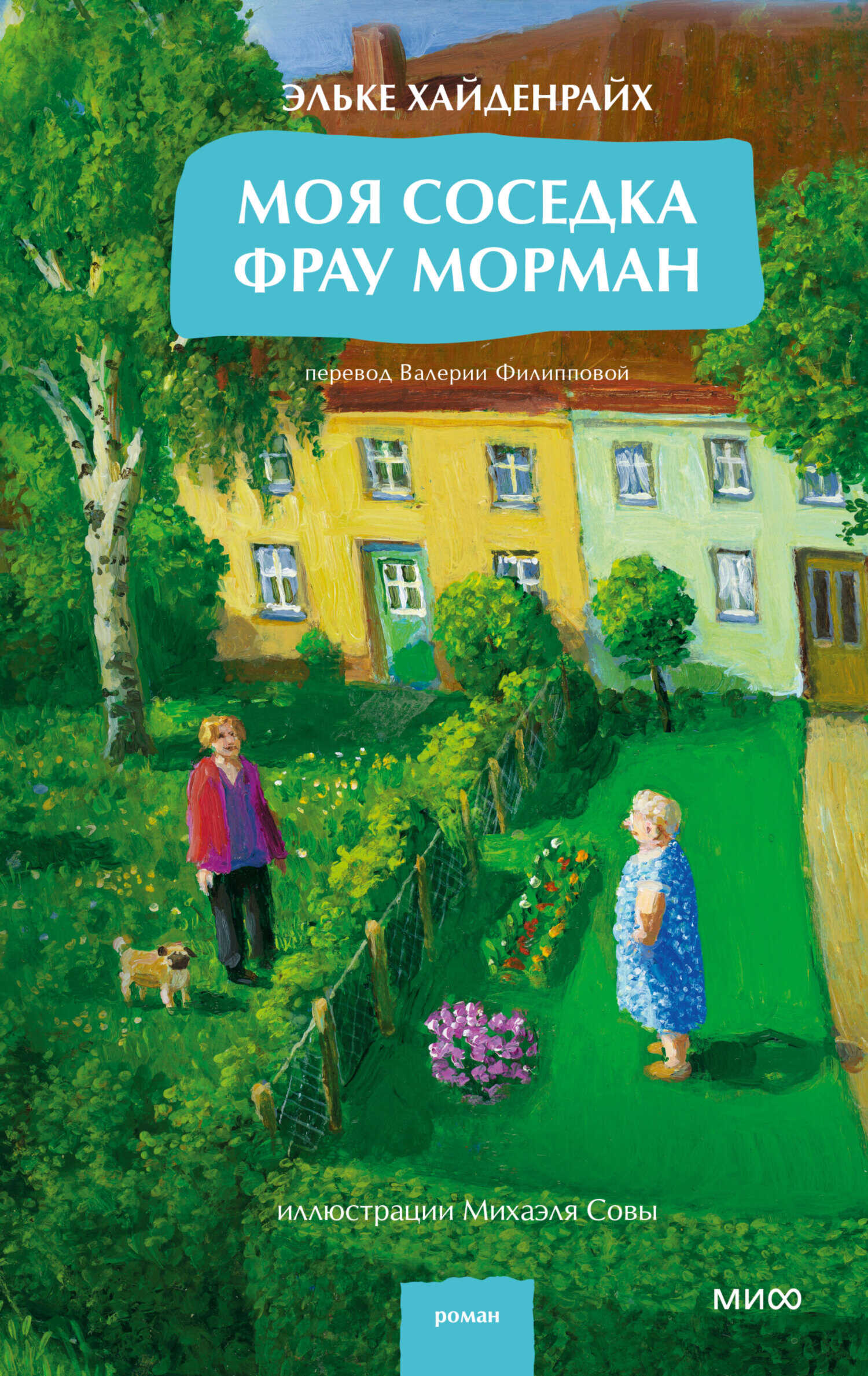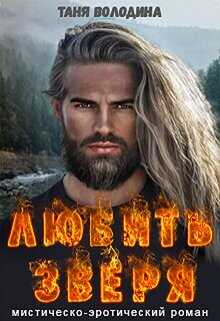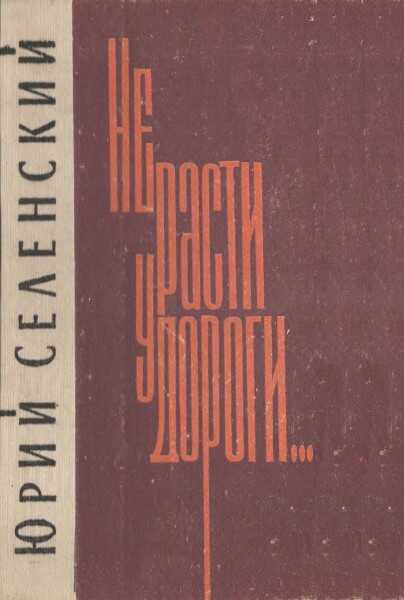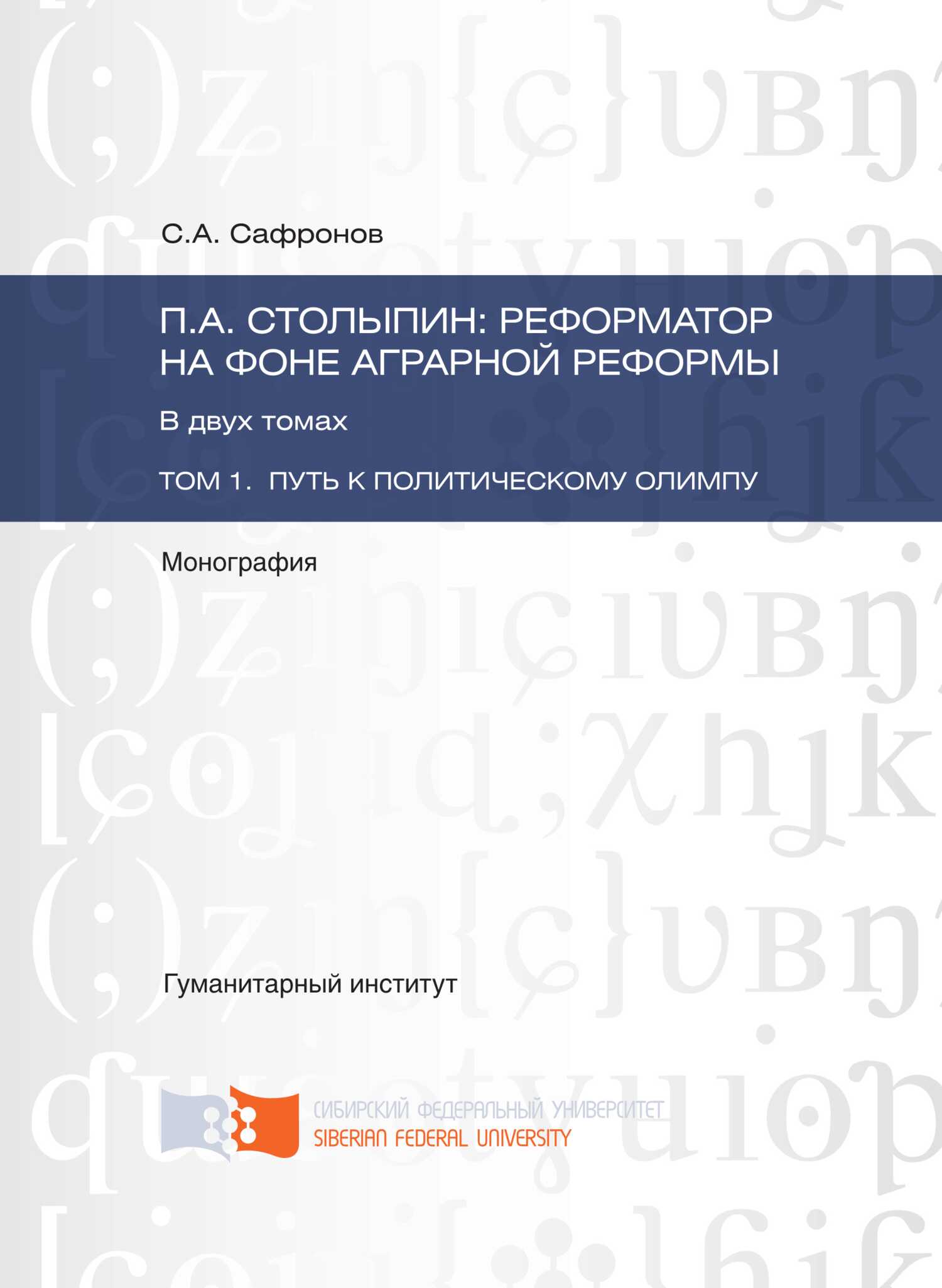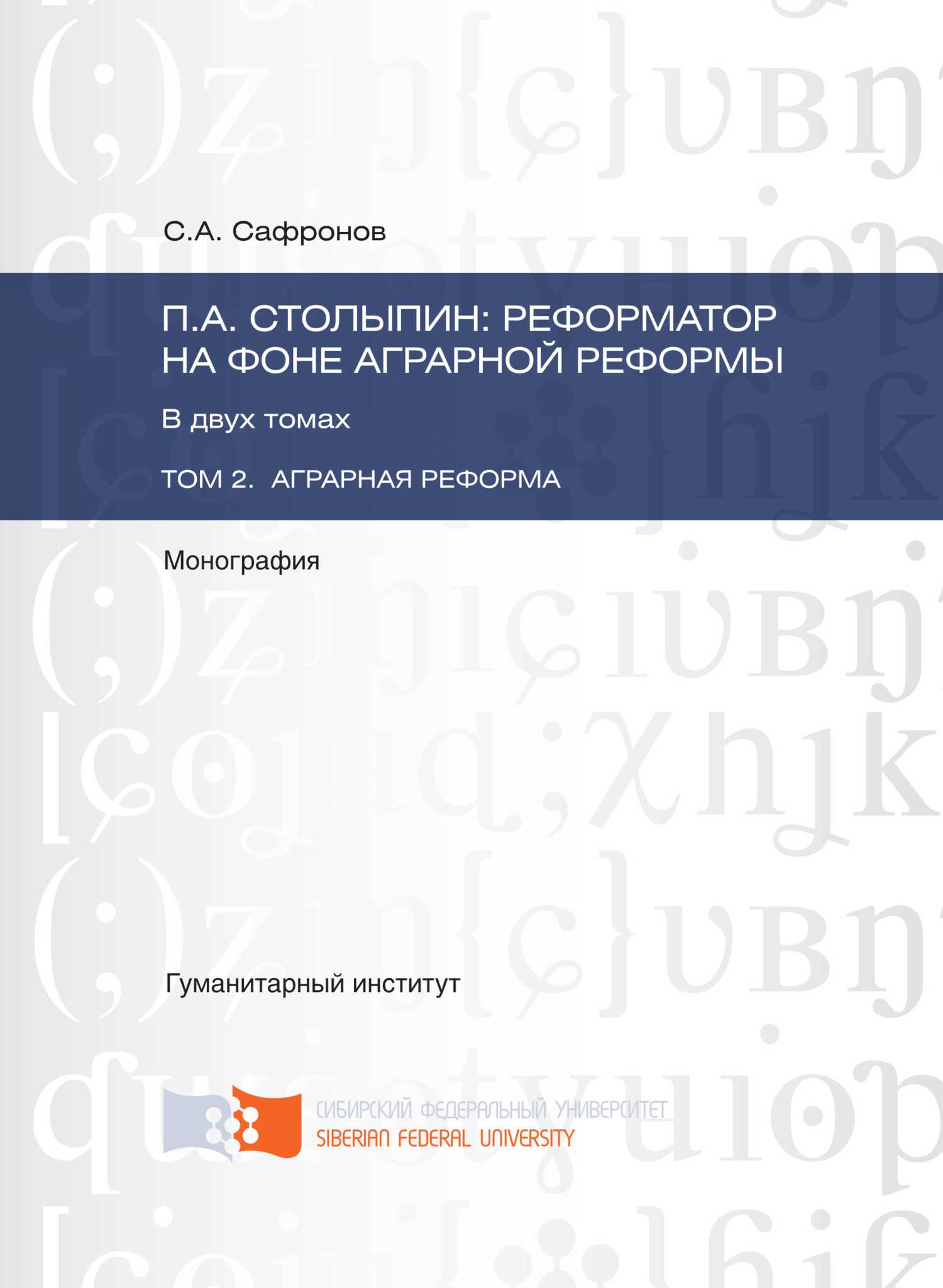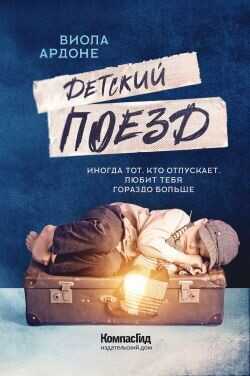Следующий - Борис Сергеевич Пейгин
Виденное не давало ему покоя. Ну, неужто он не знал, что она девочка или что они и как устроены? Это, виденное, можно было всё называть только так, это согревало изнутри и разгоняло кровь по зяблому телу, а от остального воротило, и Фил называл всё только так, потому что это было как лезвие, по которому идёшь, вправо, влево, и свалишься, это будет не она.
Ну, неужели он не знал, что она девочка, нет, девушка, женщина, и у неё есть тело, и в теле – всё, женщине присущее? Нет, была мешковатая одежда и джинсы с высокой талией, она не носила юбок, и не под что было заглядывать, да и не пытался никто. За косичку дёргали не её, лифчики расстёгивали (да и будут ещё расстёгивать) не на ней. Она – голова в светлых волосах и рука с мозолькой на среднем пальце, тянущаяся к потолку, то, что восхищало, и завораживало, и третировало его прежде, было в этом, притягивало и отталкивало, как два магнита, плюс и минус. Но теперь оказалось, что девочка-отличница – девочка, нет, тьфу, женщина, а потом всё остальное, и были оценки, и зависть, и ненависть, но он твердо знал – она женщина, а он мальчик, ну и что; это не восхищало, это влекло и требовало взять себя в руки, и не отпускать, и ввериться не голове, а телу, что есть у каждого, но он долго этого не знал. У девочки-отличницы, как и у всякого, есть тело, вот ведь новость, да никто не видит этого, а я видел и улыбался. Я знаю тайну, только мне теперь ве домую, и улыбаюсь, потому что теперь-то я точно всех умнее. Я все знаю. Она шла где-то далеко впереди, о чём-то болтала со своей подружкой Пасынковой – они вместе ходили в музыкалку, – и он смотрел вперёд, через спины и плечи. Нас снова ведут вместе, потому что так должно, и снова порознь, потому что так удобнее. О, если бы мы были одним, мы были бы непобедимы, а так – ты избиваешь меня, я тоже иногда даю сдачи, мы соревнуемся, ты побеждаешь, но никогда не победишь, потому что я так просто не утону. Мы должны быть одним, одним целым, сочленённым, слитым и нераздельным, как сиамские близнецы, вот, физически, одно сердце должно гонять по нам одну кровь, и мы были бы непобедимы, я знаю, как это сделать, но это недопустимо, и безумно, это не по нам, об этом не говорят с нами и не пишут для нас. Для нас, для тебя другие книжки, которые должно любить, ты умеешь, что должно, и любишь, а я не умею, не умею думать, как следует думать, и меня уносит за обочину, в самый низ, в кювет.
Тело покрывалось мурашками, в подвздошье, в его животе, затаилась крупная дрожь. Подняли флажки, строй вели через дорогу. Она скрылась за чьими-то плечами. На переходе куча народу, строй потерялся между ними, её не видно.
– Дмитриевский! Ну-ка в строй, быстро!
Какой строй, её не видно!
Его взяли за плечи и вернули на место. Что ж, раз им так удобнее, пусть так и будет. Да нет, не будет. Никогда он не будет делать им удобно.
…снова настала ночь, которую Фил ждал, но в которую не хотел спать, сон не шёл к нему. Он в детстве боялся темноты и плакал, звал на помощь; мама не гасила свет в прихожей, хоть и стоило больших слёз в этом её убедить, но он не мог спать в темноте. Теперь он ждал темноты, как спасения, потому что она одна могла его укрыть. В темноте ты могла прийти, она, Фил вышёл в прихожую, и погасил свет, и нырнул в темноту, задёрнув шторы на зловещем квадрате синего окна. Но маме нужен был свет, и тот ударил в лицо, он отвернулся к стене, но свет доставал его и там.
Он завернулся в одеяло, и стало темно и душно, его прошибал пот, и в этой воде была она, потому что имя твоё – вода. <..>Щекотание воды из лёгких подступило к горлу, волнение, волнение выдоха, и он чихнул, точно избыток мыслей о ней разом вышел наружу.
– А я тебе говорила, – сказала мама из-за стены, – что ты простудишься с этим бассейном, потому что шапку как попало носишь.
Не было никакой шапки, она была рядом, твои руки были на его плечах, она была без очков, щурила глаза в темноте и улыбалась; я не видел этого, темнота лишала его преимущества в остроте зрения, но чувствовал её улыбку кожей, но губы их не сходились и не смыкались. В этом было что-то от матрицы, физраствора, проводов, следования должному. Но ты была рядом и никуда не могла деться, потому что им надлежало быть одним, быть в нём, под его кожей, быть его кожей.
Ему снилась матрица. Или, точнее, не совсем она. Я качусь вниз, как по трубе водяной горки, по тесной и светлой кишке, которая вела куда-то под землю, перед ним скатывались ещё люди, и за ним тоже, и куча-мала набирала скорость, ногами толкая друг друга, и летела вперёд. Он выкатился на ленту конвейера, в поле яркого, как солнце, электрического света, и какая-то машина ему и всем, кто был с ним рядом, связала руки за спиной, и конвейер выплюнул на пол меня, среди тысяч таких же, как Фил. Он поднимал голову, видел неровный потолок, и яркие точки света под ним, словно звёзды принесли прямо туда и подвесили под потолком. Это огромная пещера, высокая, как небоскрёб, и длинная бесконечно. Вдоль стен шли конвейерные ленты, стояли огромные стеллажи из деревянных шкафчиков, вроде абонентских ящиков на почте, там пахло лаком и сургучом, но стеллажи были сто, или триста, или пятьсот ярусов в высоту и тянулись куда-то за горизонт. Под потолком примостились огромные мостовые краны, свешивали вниз паутину тросов, и откуда-то из кучи корчащихся на полу тел поднимали по одному – по два на тяжёлых гаках, и рассовывали по ящикам, и запечатывали дверцы.
Какой-то голос – из динамика под потолком или в его собственной голове – говорил ему:
– Мы выводим новую породу людей. Но для чистоты эксперимента нужна большая выборка. Нам не нужен универсальный человек, каждому надлежит заниматься своим делом. Нам нужно много людей, и вам предстоит произвести их на свет. Умные породят умных, сильные – сильных.