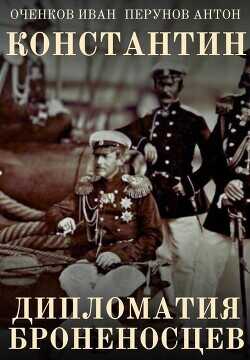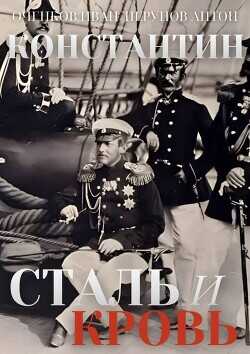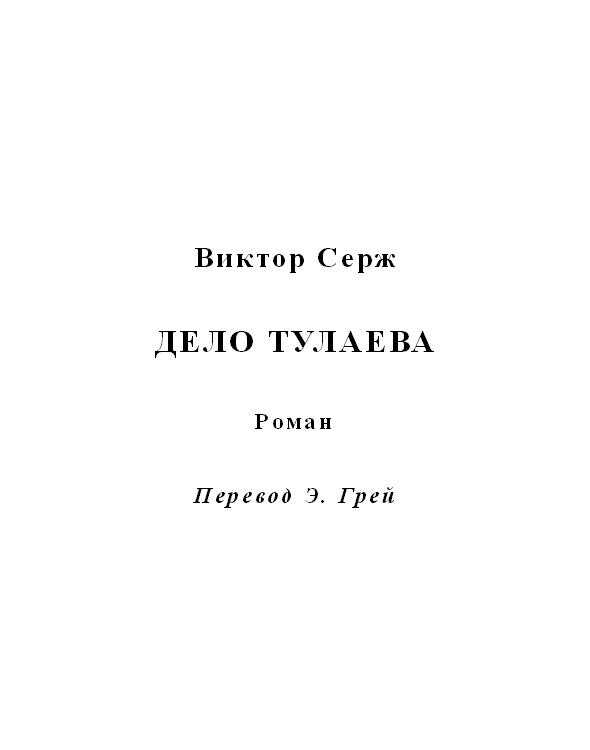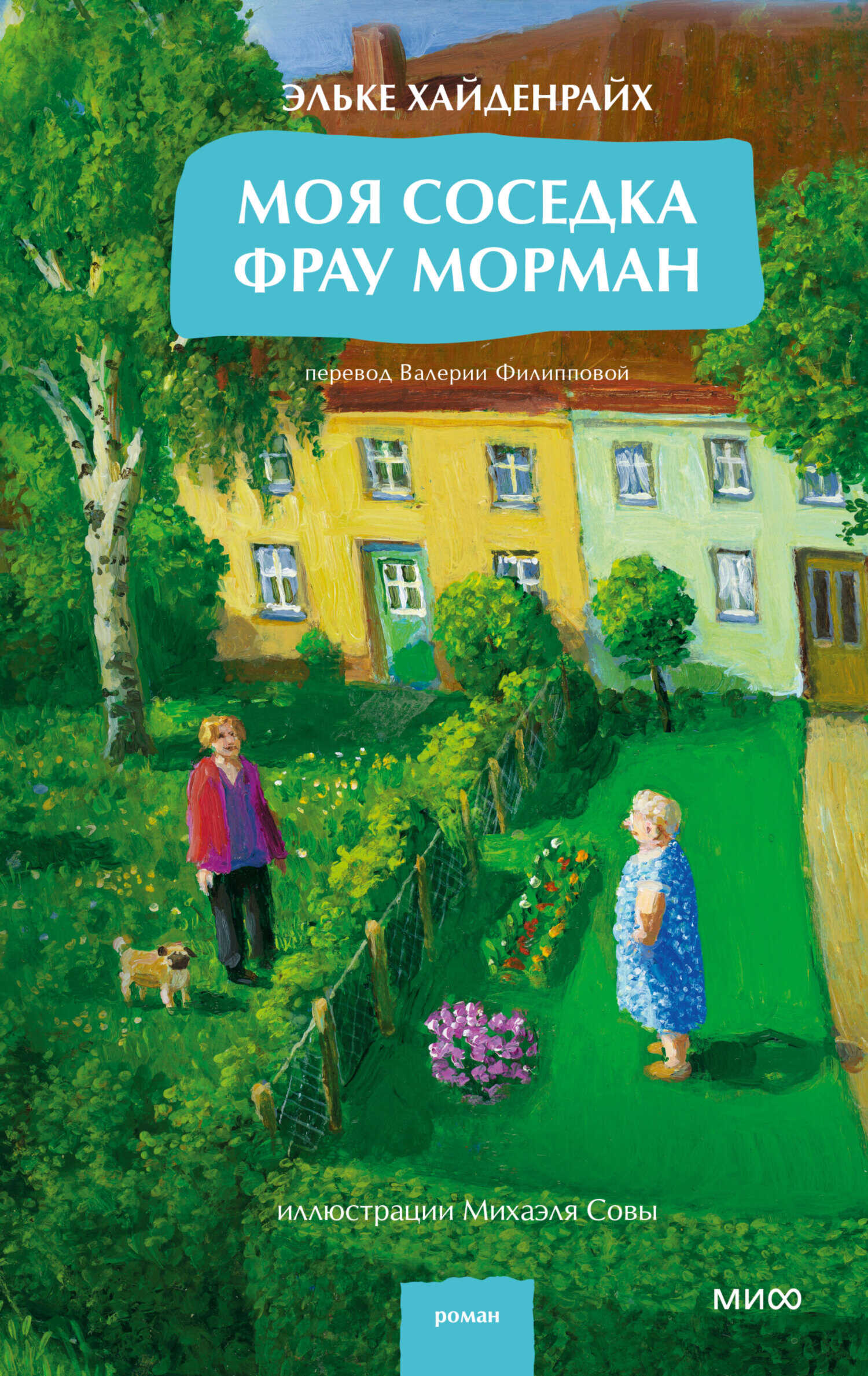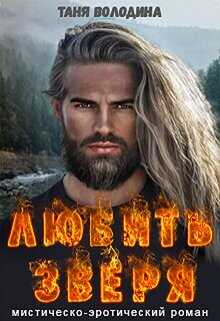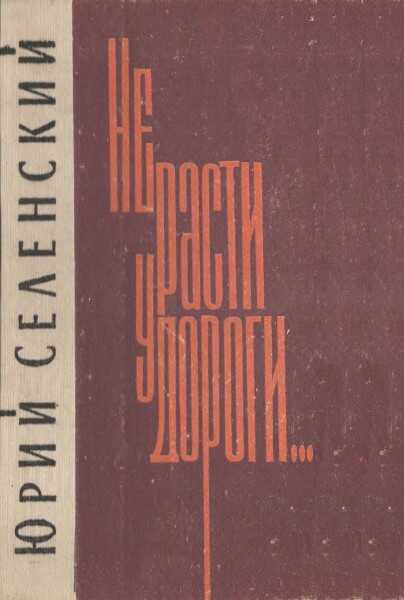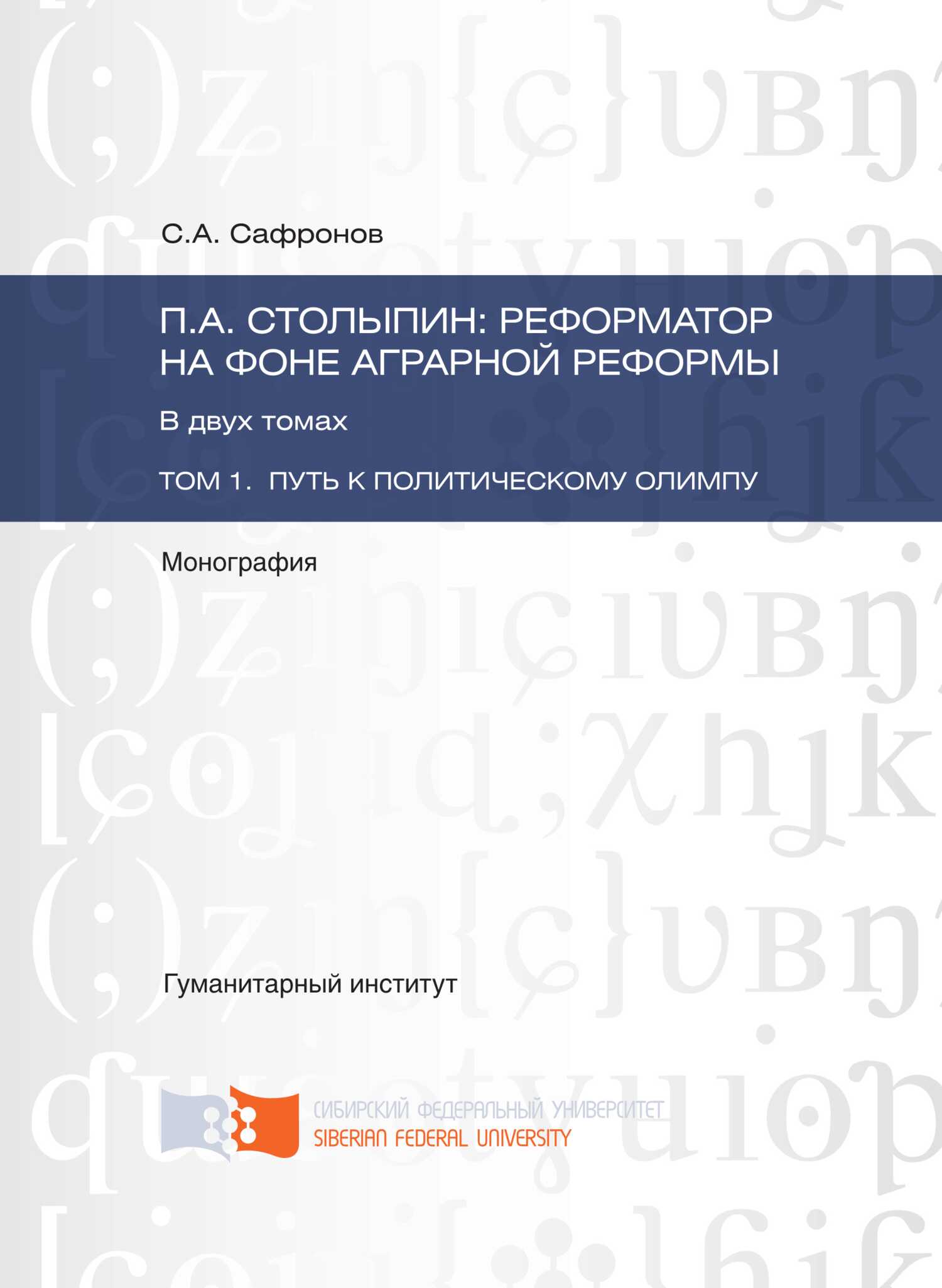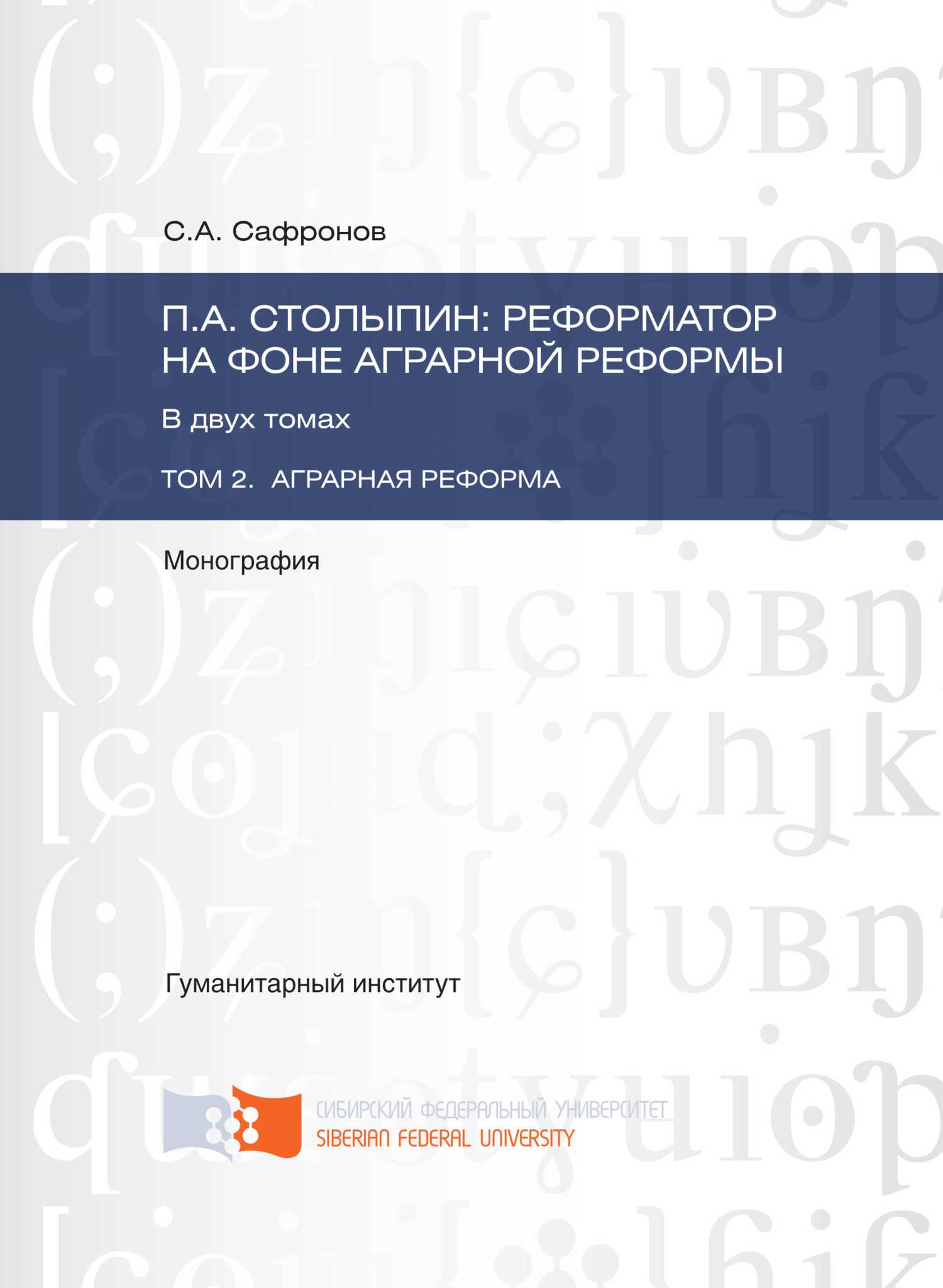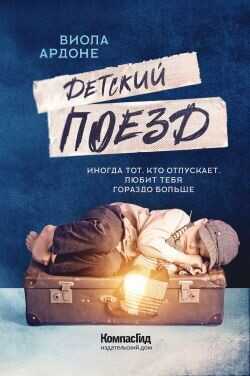Следующий - Борис Сергеевич Пейгин
Она пришла. Сырые ходы исторгли их наружу или внутрь – к бассейну, туда, где пахло хлоркой и прелым, размозжённым, размороженным ноябрём, – мальчиков слева, девочек справа, и построили. Широкобёдрая молодая женщина в белой футболке и чёрных лосинах что-то говорила им, но Фил не слушал, и шея от постоянного поворота направо так болела, что хоть теперь было голову впору снимать. О, почему он был не самый низкий, он бы стоял с правой стороны строя, и смотреть было бы удобнее. Он стояла тоже с правого конца – своего строя – и не смотрела на него, но то и к лучшему; Фил чувствовал, что его взгляд может проделать дыру не только в ней, но и в стене, или в дне бассейна, и будет всемирный потоп, и никто не построит ковчега.
Они шли вдоль бортика, сначала мальчики спускались в воду, вторая, третья дорожки, затем девочки – четвёртая, пятая, мальчики мимо девочек, я мимо тебя, ты на меня не смотришь. Под белым парным потолком кривошеие сине-жёлтые фонари, почти как уличные, а ты на тёплом гранитном полу, твои ноги согревают гранит, маленькие белые ступни с короткими пальцами.
Он видел её, проходя, как в замедленной съёмке, и сетчатки глаз ножами резали мозг, выбивая кадры на самом дне черепа, чтобы время не стёрло их. Она стояла в конце строя, ты стоишь в конце строя – потом в книгах будет сказано, кто был последним, да будет первым, но верно и обратное. Вот, ты стоишь, и ничто не скрывает тебя, ни мешковатая кофта, ни джинсы с высокой талией, ты, что скрывалась от чужих глаз, стоишь передо мною, на моём траверзе, я прохожу мимо, у меня нет секстанта, я знаю твой рост, но не могу знать расстояние до тебя, а здесь нет звёзд и солнца, только фонари и размороженный ноябрь. Он видел её, я вижу тебя, ей одиннадцать, у неё короткие ноги с маленькими ступнями и не по-девичьи широкие плечи, и сиреневый купальник облегает нехудое, мягкое тело, широкими лямками на широких плечах расходится за спину и сходится ластовицей, обтягивает тело, мягкое, как замешенное тесто, похожее на замешенное тесто, и над ластовицей снизу вверх по животу и вниз по спине. Вот, ты взрослая женщина, а я маленький и беззащитный, ты можешь убить меня по праву сильного, ты старше меня, хоть и младше, и сильнее меня, хоть и не выше, ты можешь убить меня… Был же вроде римский император Коммод, он сошёл с ума, вообразил себя Геркулесом и огромной палицей избивал беззащитных львят на арене цирка. Знал ли он это тогда, его ведь не проходили в истории Древнего мира? Да, про Коммода вроде знал – имя было смешное, как комод, только Коммод, потому и запомнил. Но, как бы там ни было, из львят в конце концов вырастают львы.
Она была близко к нему, как никогда не была, и далеко, как никогда не будет; он шёл, утопив глаза в расплавленном граните пола, расплавленном жаром, потерявшимся где-то на пути к пяткам; он видел свои ноги, выходящие из плавок и тонущие в граните, он увяз в этом расплаве и не мог идти вперёд, воздух нёс его, там пахло хлоркой, коричневатая, но прозрачная вода, шершавый кафель, готовый содрать кожу, там пахло хлоркой, она пахла хлоркой. Там пахло хлоркой, а он шёл в своём строю, шёл к воде; он был в чужой воле, и этой воле было вольно бесконечно долго держать их рядом, никогда не давая соприкоснуться. Не потому, что воля эта так хотела его мучить, но потому лишь, что ей было так удобно.
Вода была ледяная, и от этого было ещё душнее, ещё жарче, хлорка разъедала лёгкие; мелкое, щуплое тело причудливо расплывалось, раздергивалось под водой, словно было и не Филово вовсе. Он оттолкнулся от лестницы, барахтая ногами, поворачивая голову туда, где она, где шли девочки, и тесная шапочка вырывала волосы с корнями. Вода плотнее воздуха в восемьсот раз, в ней тяжело ходить, но просто летать. И надлежало летать строем, мальчикам по своим дорожкам, девочкам – по своим. Девочки спускались в воду одна за другой, и в момент, когда её ступни, маленькие ступни этой женщины коснулись воды, вода превратилась в кипяток.
И Филу хотелось кричать, выдернуть себя из нестерпимого сырого жара, как Мюнхгаузен вытащил себя за косичку из болота. Два раза перекрестился, бух в котёл… Фил зажмурил глаза и нырнул, вот, кровь закипит, он сварится живьём в этом бассейне, и всё кончится. Он касался дна, а она касалась его – через воду, через несколько дорожек. Она была рак по гороскопу, и имя её – вода, а я – воздух. Он сжался на дне и чувствовал, как вода холодеет, и тело холодеет, он прижал колени к телу, и они холодели, а она касалась его прямо через воду, потому что воздух не проводит ток, а вода – проводит. Он где-то что-то читал про пробой трансформатора, он не знал, что это такое, но красиво звучало. Вот, я пробитый трансформатор, ты в воде, ты касаешься меня водой, обволакиваешь меня целиком, и я захлебнусь в тебе, потому что это – ты, это тело твоё, ты в нём, я в нём, и границ между нами нету, как и не должно быть. Я открою рот, и наберу тебя за обе щеки, и проглочу столько, сколько в меня влезет, потому что я никогда не мог бы дорваться до тебя и упиться тобою.
Они летели строем по воде, кто умел, а кто не умел, барахтался у бортиков; пахло хлоркой, и девушка в чёрных лосинах что-то кричала, и эхо отлетало от кессонов потолка и тонуло в воде. Фил умел плавать и летел головой над кромкой воды; по параллельной дорожке летел Костров со своим вечным насморком, закинув огромную соплю на плечо, а она осталась где-то далеко в начале бассейна, но она касалась его и не отпускала, и это не должно было кончиться никогда. Но время кончилось быстро, в школу все тоже пошли строем; волосы на треснувшем морозце сошлись в сосульки и трогали Фила