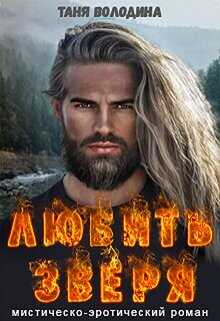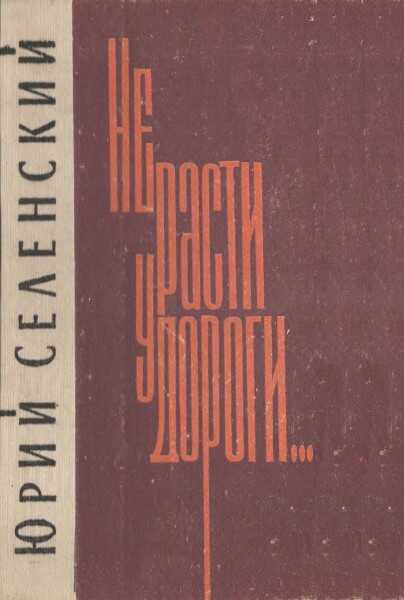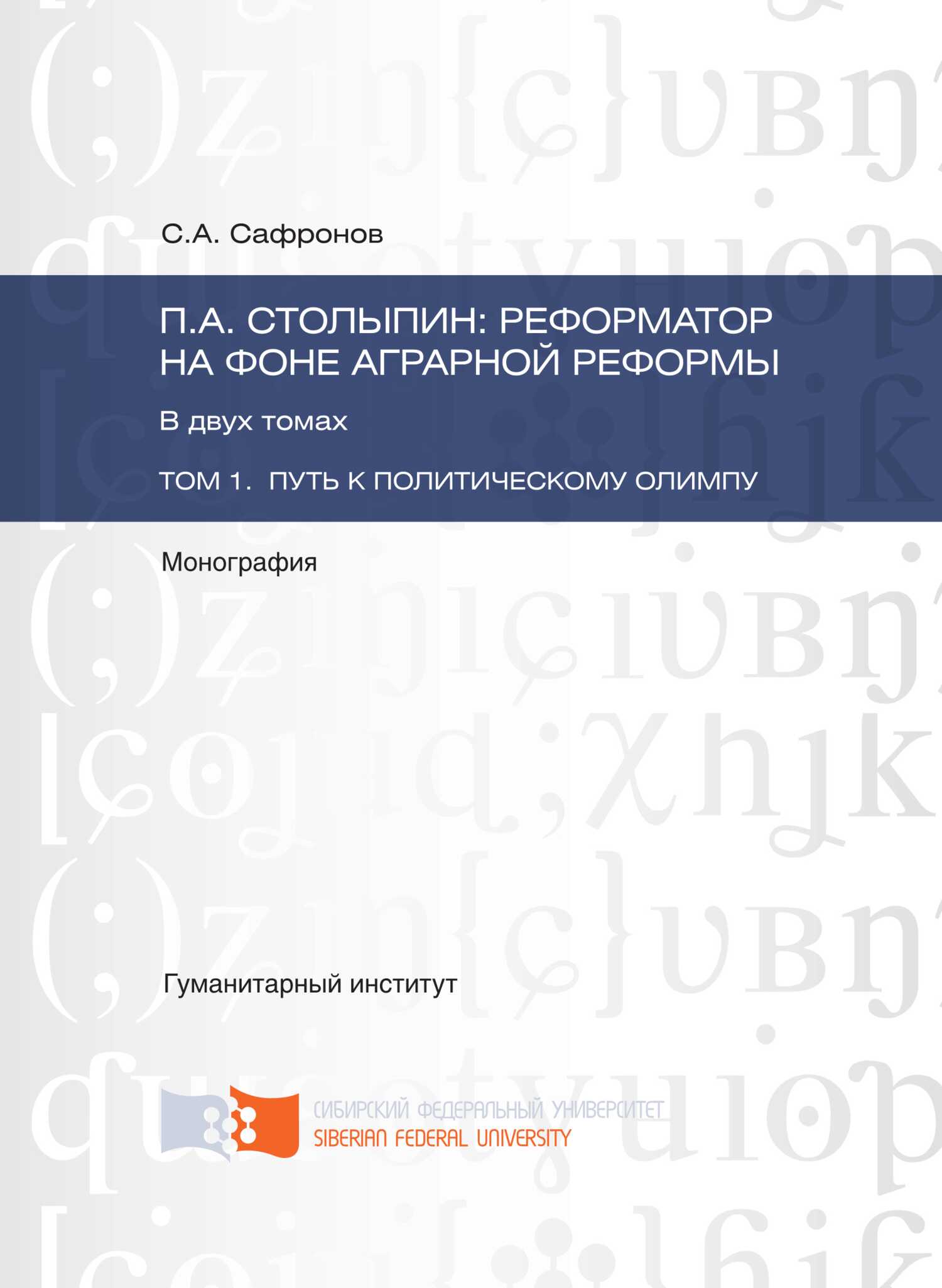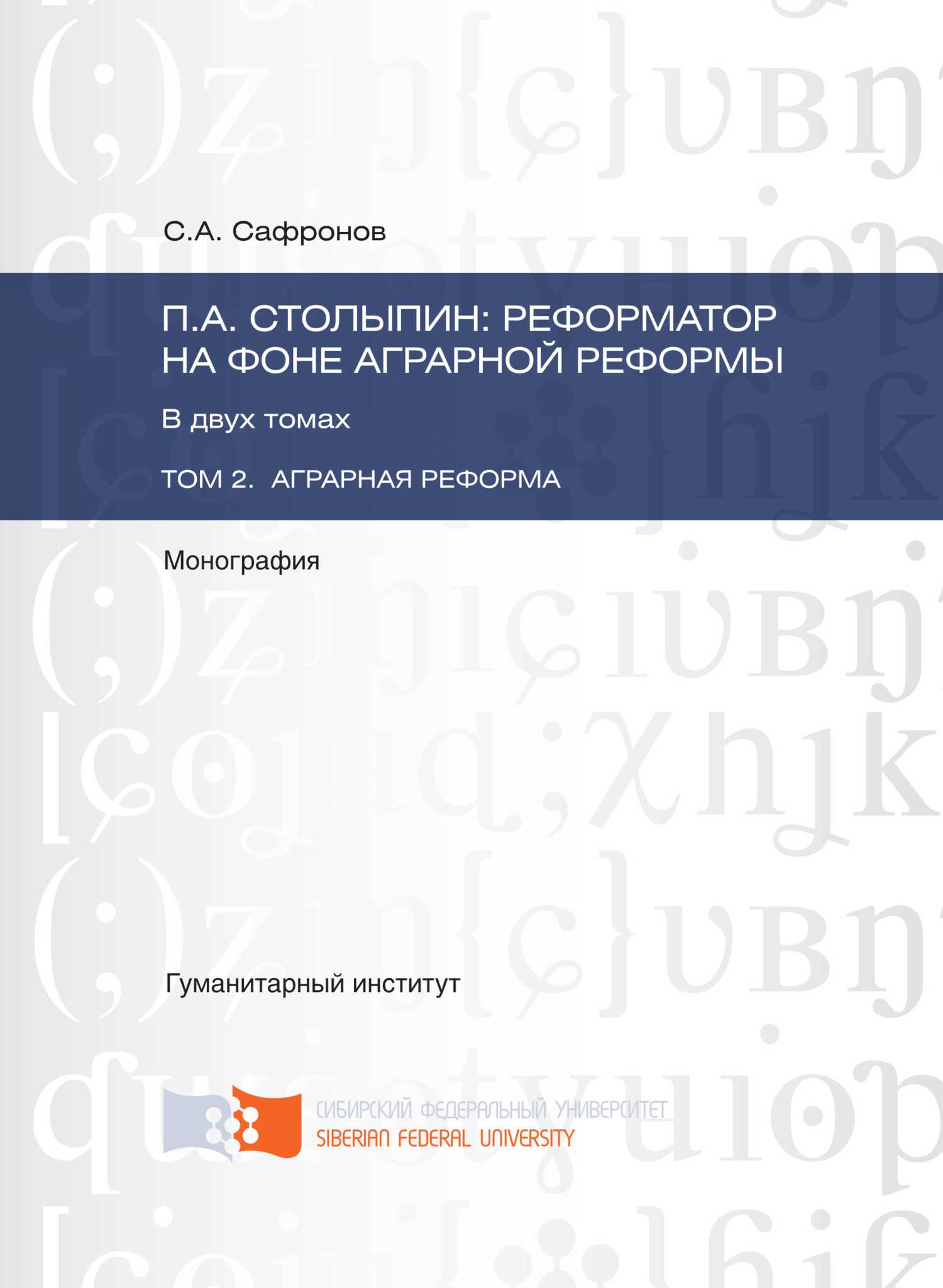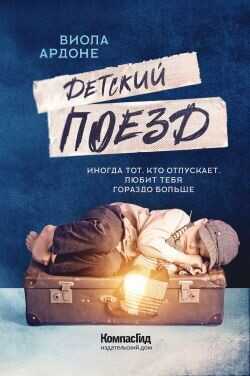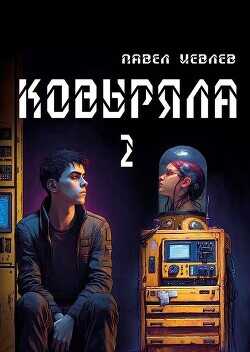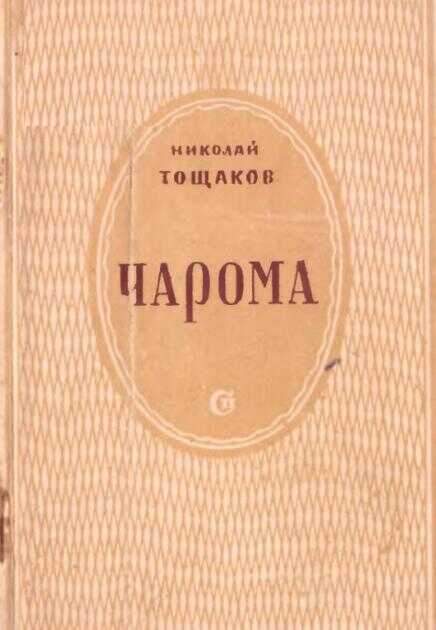История Майты - Марио Варгас Льоса
– Нет, не можем, – немедленно отвечает он, причем довольно жестко. Но тотчас добавляет, противореча себе: – Не о чем там говорить. Доказательства были подтасованы, свидетелей вынудили дать ложные показания. Меня признали виновным, потому что я из-за своего прошлого годился на роль виновного. И этот приговор – позор нашего правосудия.
Снова срывается его голос, словно в этот миг Майту одолели усталость, уныние, уверенность, что бессмысленно разубеждать меня в том, что с течением времени обрело каменно-неразрушимую прочность. Правду ли он говорит? В самом ли деле он не был в числе налетчиков на Ла-Викторию и одним из тех, кто похищал людей из Пуэбло-Либре? Я отлично знаю, что в наших тюрьмах сидят и ни в чем не повинные люди – может быть, их столько же, сколько преступников, которые гуляют на свободе и пользуются всеобщим уважением, – и очень может быть, что Майта, состоявший на земетке у полиции, послужил козлом отпущения для правоохранителей всех мастей. Человек, сидящий напротив, столь явно пребывает в такой апатии, в таком, я бы сказал, моральном опустошении и упадке, что я не в силах представить его соучастником тяжких преступлений.
– Я сделал героя моей книги гомосексуалистом, – помолчав, сообщаю я.
Он вскидывает голову, как ужаленный. Гримаса отвращения искажает лицо. Оттого ли, что он сидит в низком кресле с широкой спинкой, но сейчас ему можно дать лет шестьдесят или даже больше. Вижу, как он вытягивает ноги, как крепко растирает руки.
– А зачем? – наконец спрашивает он.
Вопрос застает меня врасплох: я сам не знаю зачем. Но тут же сочиняю объяснение:
– Чтобы подчеркнуть, что он – маргинал, что весь соткан из противоречий. Впрочем, я сам точно не знаю зачем.
Отвращение на его лице читается еще явственней. Вижу, как он протягивает руку, берет стакан, стоящий на стопке книг, и, убедившись, что воды в нем нет, ставит обратно.
– Всегда считал себя человеком без предрассудков, – бормочет он после паузы. – Но в отношении педерастов боюсь, что это не так… Предубеждение возникло после того, как повидал их. В Сексто, во Фронтоне. А в Луриганчо дело обстояло и того хуже.
Он задумывается. Лицо немного разглаживается, но гримаса не исчезает. В том, что он говорит, нет и тени сочувствия:
– Выщипывают брови, горелыми спичками красят ресницы, мажут губы, надевают юбки, мастерят парики, превращаясь в точные подобия шлюх, которых эксплуатируют сутенеры. При виде их блевать тянет. Не верится, что человек может пасть так низко. За недокуренную сигаретку готовы отсосать. – Майта сопит, лоб его вновь покрывается испариной. И добавляет сквозь зубы: – Говорят, в Китае Мао всю эту шваль перестрелял. Не знаете, правда это?
Он снова встает, уходит в уборную, а я тем временем смотрю в окно. Сегодня вечером небо над Лимой против обыкновения покрыто звездами: одни неподвижны, другие искрятся над черным пятном моря. И думаю, что, должно быть, там, в Луриганчо, Майта в такие вот вечера завороженно созерцал чистое, безмятежное, исполненное достоинства сияние звезд, так резко контрастировавшее с унизительной извращенностью, в которой он жил.
Вернувшись, он говорит, как ему жалко, что так и не пришлось побывать за границей. После очередной отсидки, выходя на свободу, он каждый раз лелеял иллюзорную мечту – уехать и в другой стране начать все заново, с нуля. Он пробовал осуществить ее, но это оказывалось очень трудным – или денег не было, или нужных документов, или того и другого. Однажды на автобусе должен был доехать до Венесуэлы, но на эквадорской таможне его высадили: паспорт оказался не в порядке.
– Однако я все равно не оставил мысль уехать отсюда. С таким семейством это, конечно, трудней. Но все-таки очень хочется. Здесь ни работы подходящей, ни вообще ничего. Нет – и все. Куда ни глянь – ничего нет. Так что надежды не теряю.
Но только не на Перу, думаю я. Разуверился полностью и окончательно, не так ли, Майта? А ведь ты так горячо верил в будущее Перу, так хотел что-то сделать для своей несчастной страны. Теперь ты думаешь, или делаешь вид, словно думаешь, что ничего в ней не изменится к лучшему, а все будет только хуже. Голод, ненависть, угнетение, невежество, жестокость, дикость – всего этого станет еще больше. И теперь ты, подобно многим и многим, думаешь только о том, как бы выбраться отсюда, пока все мы не пошли на дно вместе с Перу.
– В Венесуэлу или в Мексику, где, говорят, благодаря нефти сейчас тоже много работы. Или даже – в США, хоть я и не говорю по-английски. Вот чего бы мне хотелось.
Снова ему изменяет голос от нехватки убежденности. И в этот миг кое-что пропадает, а именно – интерес к нашей беседе. Я знаю, что из моего лжеодноклассника ничего больше не добуду, кроме уже добытого – огорчительного доказательства того, что передо мной сидит человек, разрушенный страданием и злобой, потерявший даже воспоминания. Короче говоря, человек, разительно отличающийся от Майты, которого я описал в романе, – неисправимого оптимиста, исполненного веры и любящего жизнь вопреки неотъемлемым от нее ужасам и злосчастьям. Мне становится неловко задерживать его – время уже к полуночи, – злоупотреблять его терпением ради бессодержательного и предсказуемого разговора. Мучительно, должно быть, перебирать воспоминания, то и дело отлучаясь в уборную и возвращаясь в мой кабинет: ломать рутинный распорядок дня, однообразие которого пристало скорее животному, чем человеку.
– Из-за меня вы припозднились, – говорю я.
– Если честно, я ложусь рано, – отвечает он с благодарной улыбкой облегчения, которая кладет конец нашей беседе. – Хоть и сплю очень мало: четырех-пяти часов мне достаточно. А в детстве, наоборот, был из тех, кого, как говорится, не добудишься.
Мы поднимаемся, выходим, и на улице он спрашивает, где остановка автобуса. Когда я говорю, что отвезу его, Майта бормочет, что достаточно будет подкинуть до центра. А дальше он сядет на маршрутку.
На Виа-Экспресса машин почти нет. Мелкий дождик кропит лобовое стекло. Пока едем до проспекта Хавьера Прада, обмениваемся необязательными мнениями о засухе на юге и наводнениях на севере, о стычках на границе. У моста он шепчет страдальчески, что ему нужно выйти на минутку. Я торможу, и он, прикрываясь дверцей, справляет малую нужду. Снова усевшись, бормочет, что по вечерам, в такую сырую погоду, проблемы с почками обостряются. Обращался ли он к врачу? Лечится ли? Сначала придется оформить страховку, а уж потом он сходит в клинику «Оспиталь дель Эмплеадо», покажется специалисту, хотя, по всей видимости, болезнь его стала хронической и вылечить ее едва ли удастся.
До самой площади Грау едем в молчании. И тут внезапно,