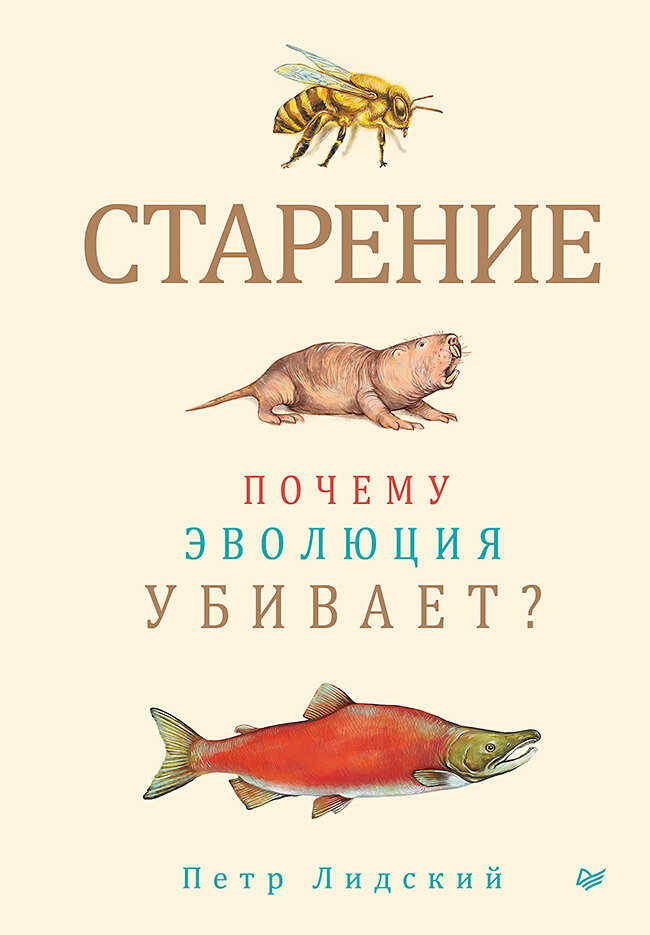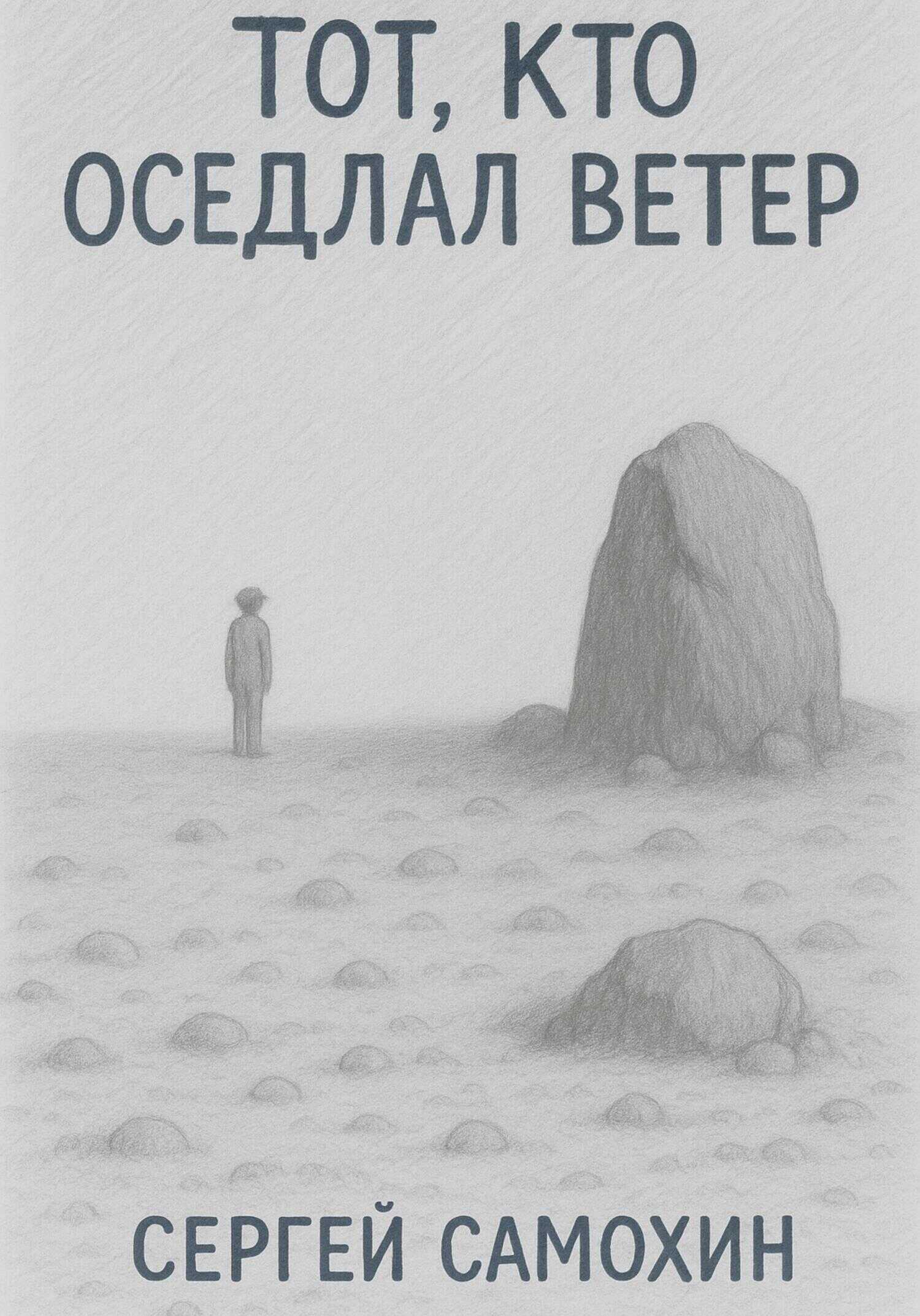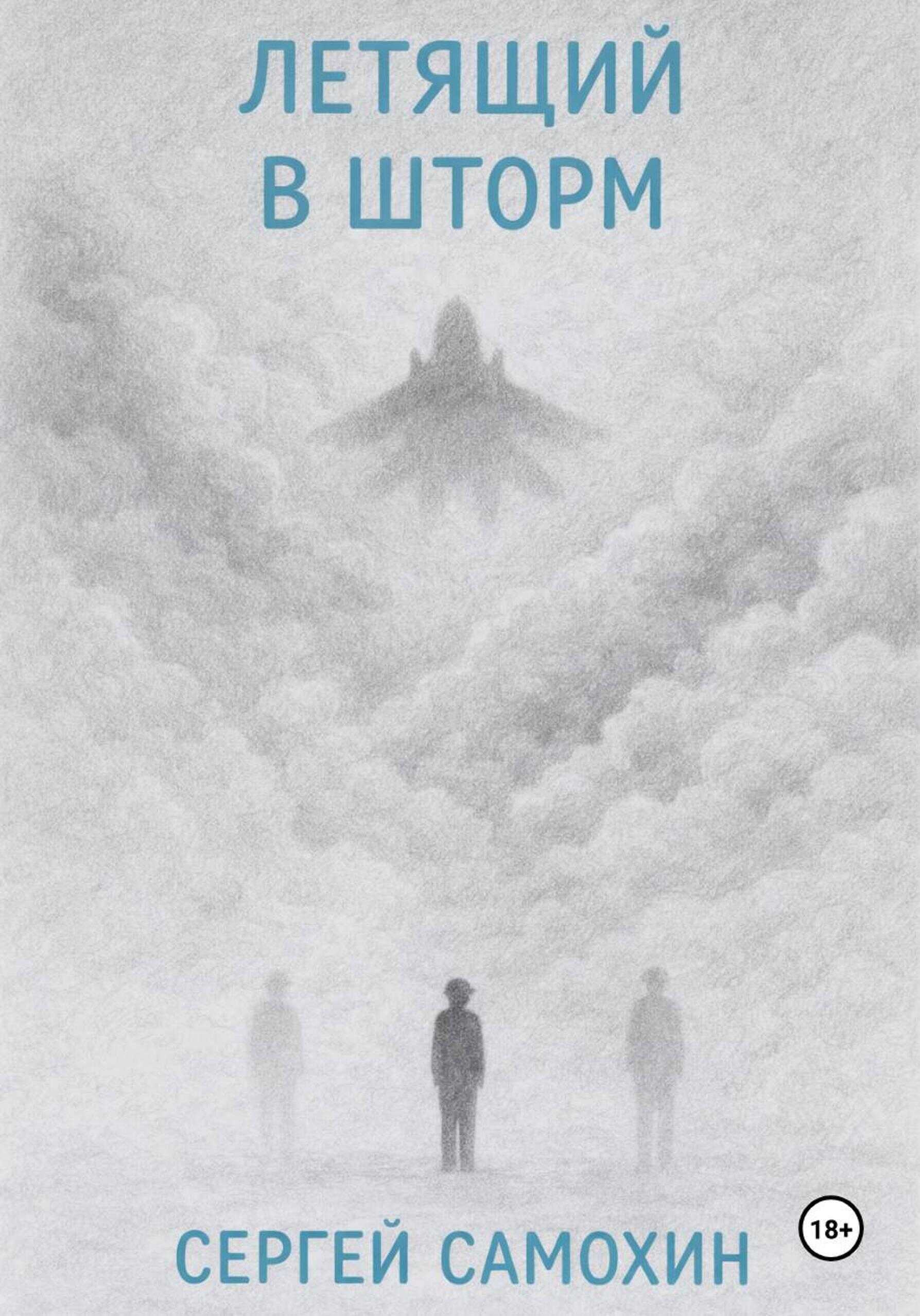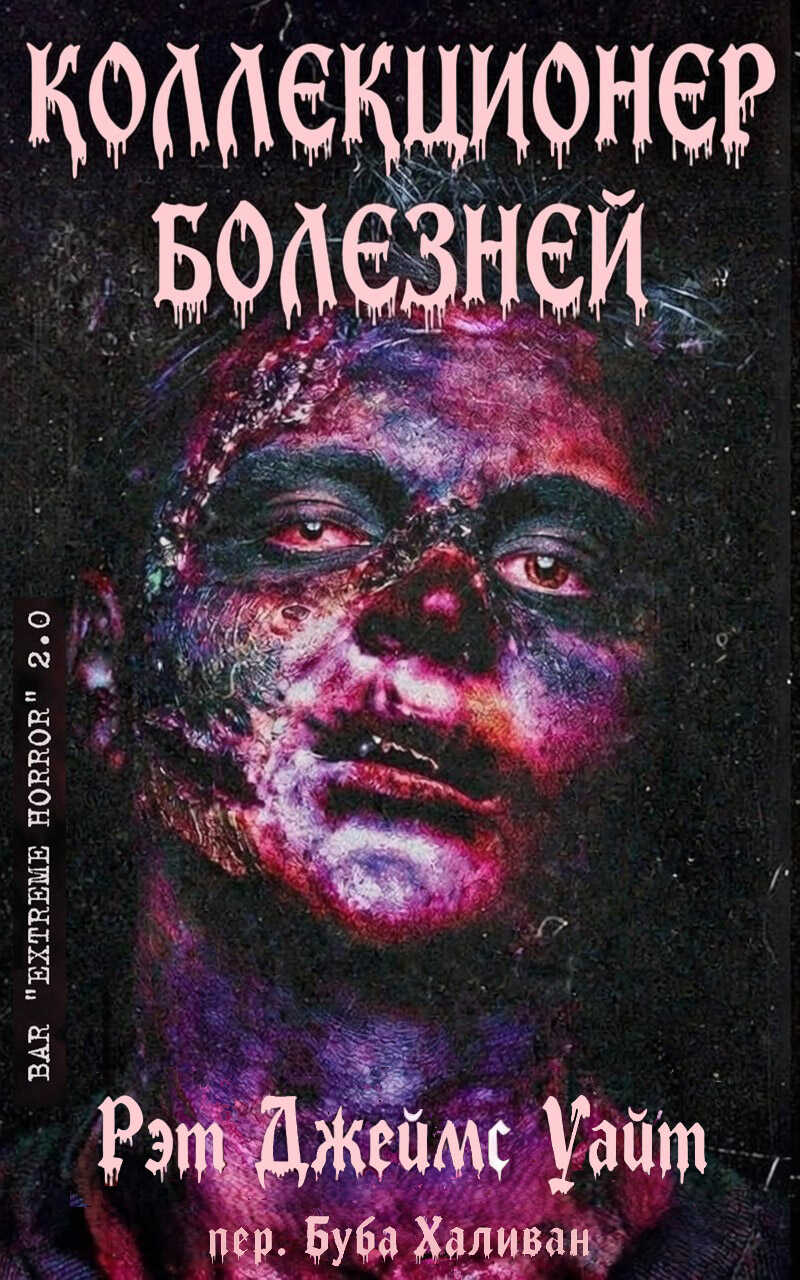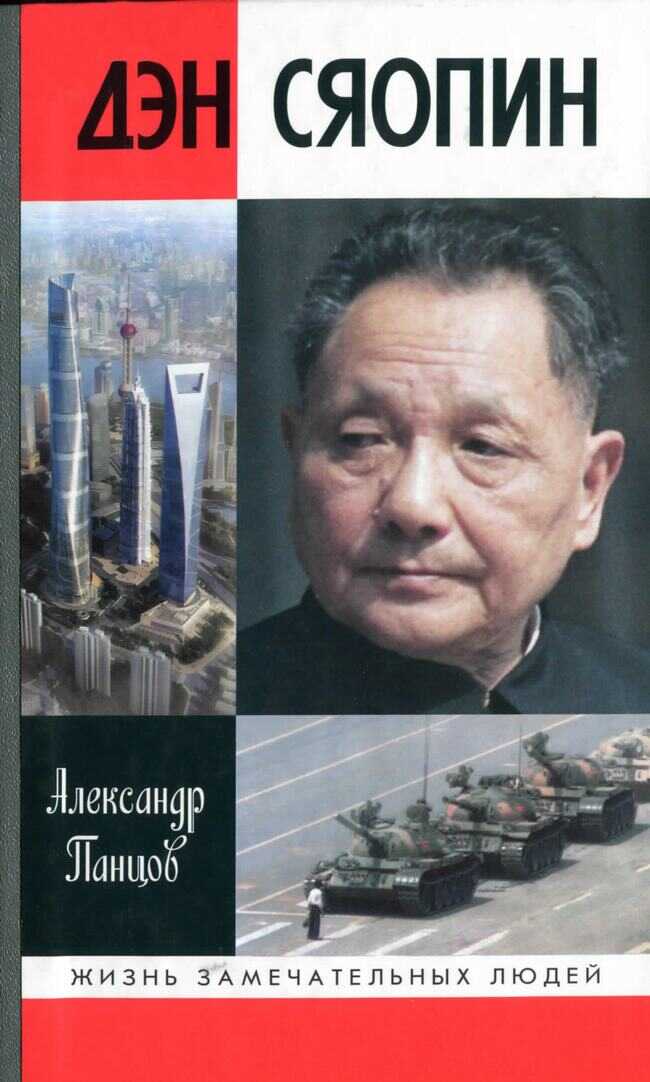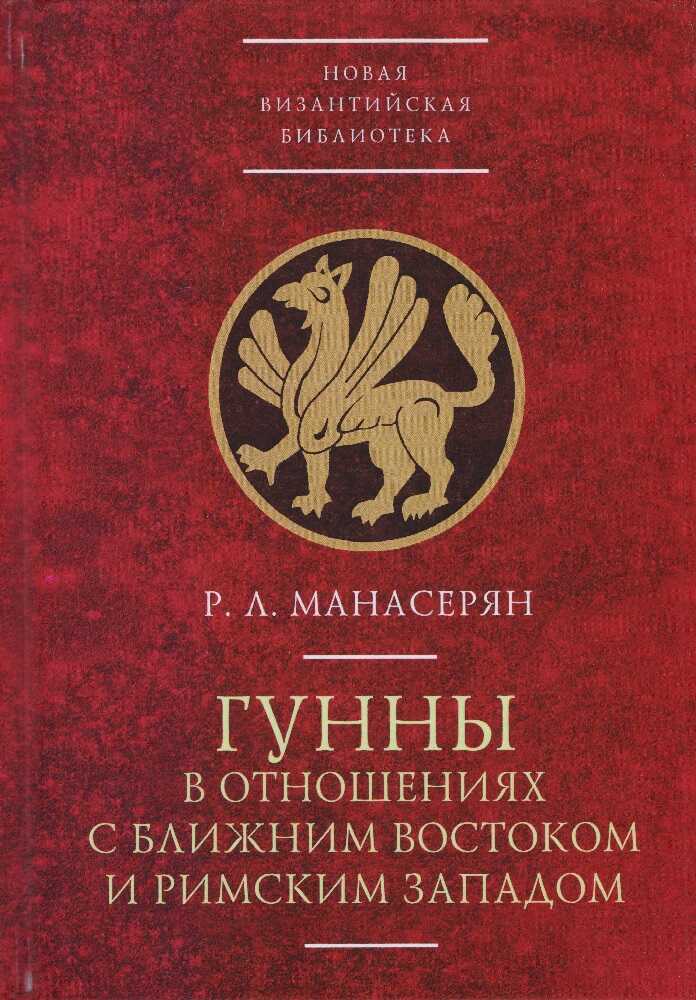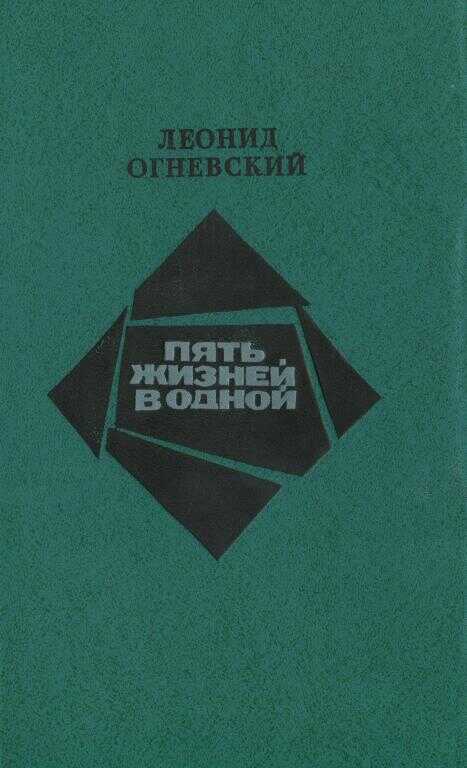XXXIII
Как некогда Нарцисс, в источник глядя, Самим собой пленился, так она Собой зеркальной заворожена. И так залюбовалась отраженьем, Что ревностью сама к себе зажглась, На всякого поднять глаза боясь, Чтоб у себя саму же не похитить. Я в мыслях представляюсь ей таким, Кто знает цену всем сердцам людским. Но, глянуть вчуже, волею судеб Она как Дафна, я ж люблю, как Феб.
XXXIV
Когда же на призыв моих желаний Прельстительница-донна снизойдет? Вотще молю Морфея, чтобы тот Из тысяч выбрал лик всех несказанней И мне явил среди ночных мечтаний Сей образ, только знаю наперед: Мне не узреть жестокой, что ведет — Увы мне, бедному! – к могиле ранней. Да, не узреть – скорее потекут Вспять реки и от агнца одичало Помчится волк, пробравшийся в закут. Убей меня, Амор, дабы начало Всех мук, сиянье глаз, что сердце жгут, Смеясь моей беде, прекрасней стало.

XXXV
Когда б огонь, что пепелит мне грудь И заставляет всхлипывать надсадно, Не бередил мне душу столь нещадно И позволял хоть миг передохнуть, — Тогда, возможно, мог бы я рискнуть Жить дальше этой жизнью неприглядной, Дать в песне выход грусти безотрадной И груз обид накопленных стряхнуть. Но, словно Дафна прочь от Аполлона, Она бежит моей погони тщетной, Лишив мои глаза своих лучей; Попался я, как дрозд на клей, и донна Жизнь обратит мою в туман бесцветный, А сердце – в полный горьких слез ручей.
XXXVI
Как пишут, Партенопою, сиреной, Что красотой и голосом славна, Сей избран край и здесь жила она На злачном склоне пред морскою пеной. Младой простилась с оболочкой бренной, Здесь прах ее, и в честь нее страна В летописаниях наречена, Богата, плодородна неизменно. Смягчилось небо, к ней благоволя: Дало другой, что ей под стать, родиться, И я, на милую врагиню глядя, Спешу ее искусством насладиться, Но, побежденный, пыл не утоля, Встречаю лишь презрение во взгляде.
XXXVII
Пруды и ручейки остекленели, Оделись реки в панцирь изо льда, Деревья обнажились без стыда, От снега горы, долы побелели; Трава мертва, и птиц умолкли трели, Природе всей враждебны холода; Задул Борей, и звери кто куда — В берлоги, в норы – скрылись от метели. А я горю, несчастный, сам не свой, В таком огне, что пламенник Вулкана Покажется пред ним лишь искрой малой. И день и ночь у своего тирана Выпрашиваю влаги дождевой — Ни капли до сих пор не перепало.
XXXVIII
До наших дней предание дошло О том, как на скале в стране Борея Жестоким клювом сердце Прометея Терзал орел и вновь оно росло. Мне кажется, воскресло это зло, Я в качестве подобного трофея Амору стал, он мучит, не жалея, И много слез в чернила натекло. Я плачу, ибо сердце рвут на части; Когда же он умерит муки вдруг, От раны стану слабым, изможденным, Но, Боже, переменятся напасти, Двояк непреходящий мой недуг: Разбитым становлюсь, но возрожденным.
XXXIX
Когда покинет солнце небосвод И свет его похищен будет тенью, Животные спешат к отдохновенью, И до поры, когда из гангских вод Аврора златокудрая взойдет, Забывшись где-то под укромной сенью И чуждые любовному томленью, Они не знают горя и забот. А я, когда нисходит мгла ночная, Лью слезные потоки в два ручья, Что полноводней двух лесных криниц, Ни отдыха себе, ни сна не зная, Так злым Амором измытарен я, Что до рассвета не сомкну зениц.
XL
Одни пеняют на немилость рока: Страстям их, дескать, не благоволит; А кто на Бога ропщет, кто винит Амора, кто-то даму: мол, жестока, Хотя сама чиста и без порока И мерзок ей любовный аппетит; А кто – планеты на кругах орбит, Но не себя, и оттого морока. А я, страдалец, лишь глаза виню Во всех несчастьях, ведь они – дорога, Которой страсть огнем в меня вошла. Будь сомкнуты, любовному огню Я не поддался б и, с поддержкой Бога, Не звал бы смерть как средство против зла.



![Зов Ктулху [сборник] - Говард Лавкрафт](/uploads/posts/books/423288/423288.jpg)