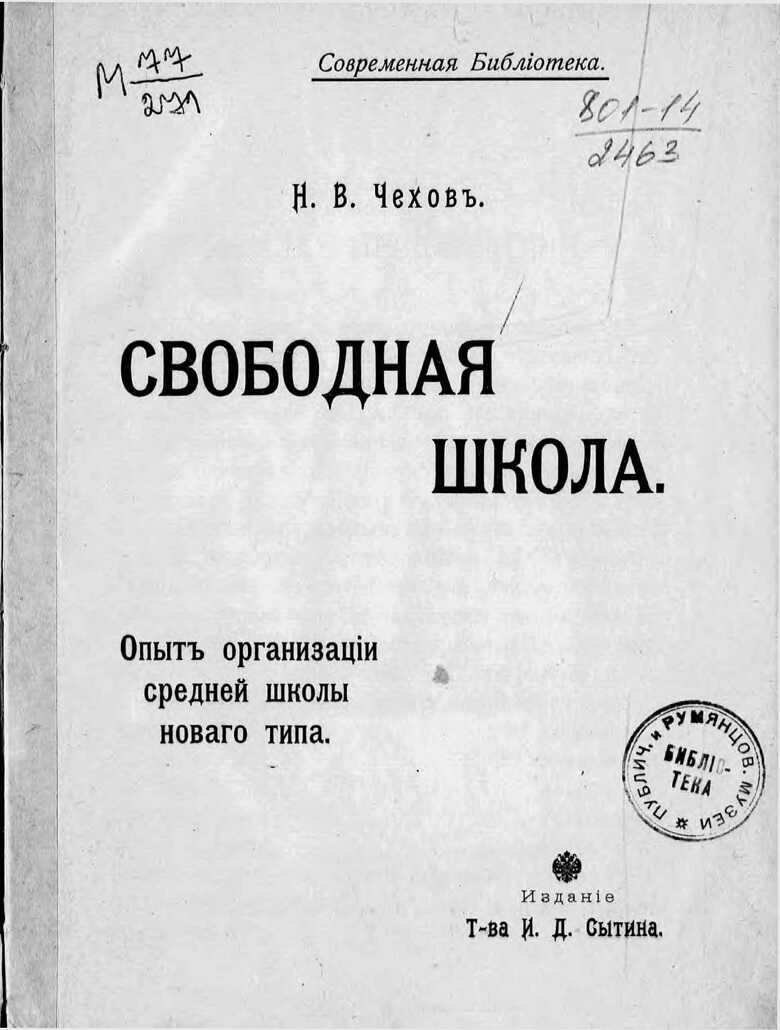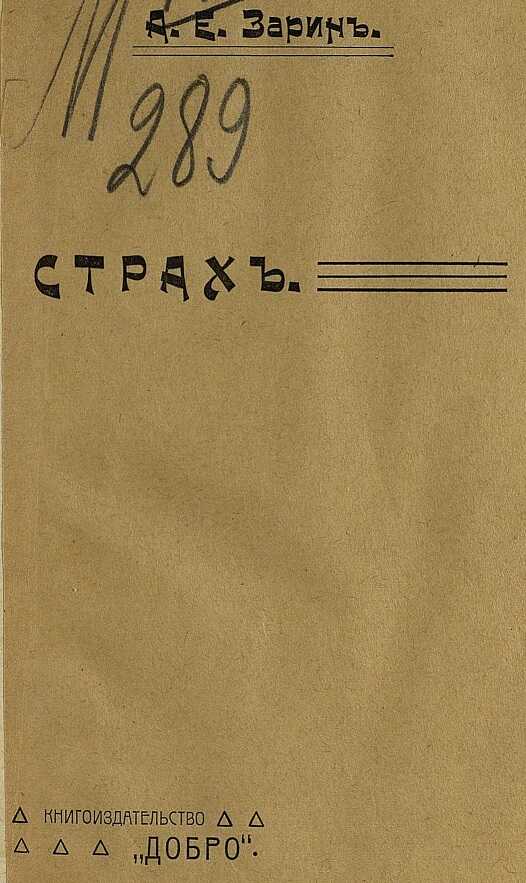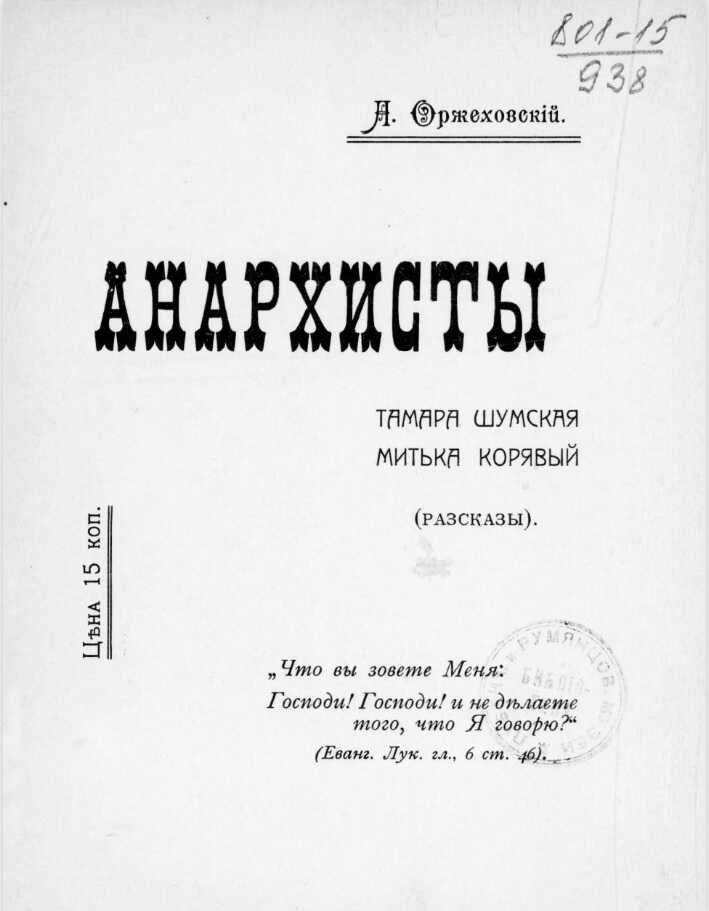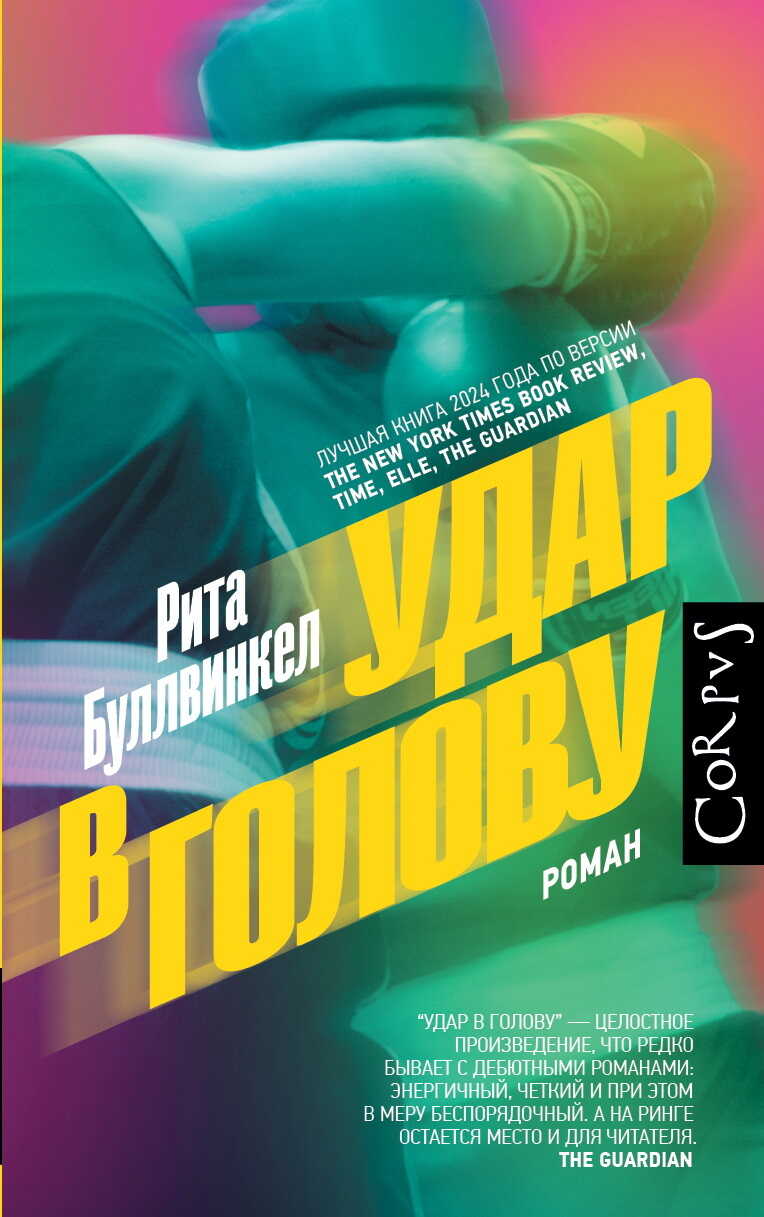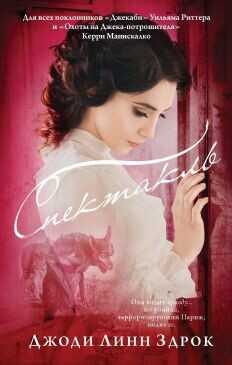Анатолий Приставкин - Ночевала тучка золотая
Ознакомительная версия. Доступно 11 страниц из 73
Они сближаются, когда заболевший Колька в бреду зовет брата, а над ним склоняется Алхузур, на ломаном русском языке уверяя: я и есть «Саск». Заботой, смелостью, готовностью делить любые опасности Алхузур доказывает свое право стать Колькиным братом, называться Кузьменышем.
Привычные представления о возможном и невозможном окончательно теряют силу, непреложность. Теряют потому еще, что Колька и Алхузур ведут себя, не сообразуясь с правилами, заповедями, каких придерживаются взрослые. Непосредственное побуждение берет верх, знакомое уже нам чувство взаимовыручки в беде, одинаково угрожающей двум мальчикам — русскому и чеченцу. Все должно было распалить ненависть, жажду мести до седьмого колена. А возобладала братская любовь. Любовь помогла выжить прежним Кузьменышам, помогает и новым. В новом Кольке нет былой легкости, надежды на Сашкину подсказку, позволяющую сообразить, как говорит Регина Петровна, ху из ху. Сам он должен соображать, выбирать, решать, а Регина Петровна лишается былого ореола. Теперешний Колька не прощает ей отступничества, даже если оно было отчасти вынужденным, и сейчас она хочет, робко пытается искупить свою вину, выгородить Алхузура, уверяя, что он — Сашка.
Настоящий Сашка, может, и простил бы Регине Петровне ее бегство. Колька после Сашкиной гибели не прощает. Он сделался не ожесточеннее, но суровее, непреклоннее. В нем проступает судья.
В Кольке это лишь черточки, в Алхузуре символ преобладает над живой плотью, характером.
Не думаю, будто так получилось независимо от писательских намерений. К концу повести идея потребовала более наглядного, прямого и вместе с тем обобщенного выражения. Нечто сходное, вероятно, испытывали авторы иных знаменательных повестей и романов последнего времени; властное «Не могу молчать» побудило к публицистическим монологам. Но там — нынешний день, его драмы и трагедии. У А. Приставкина — прошлое, ставшее уже далеким; Колькин сверстник вспоминает Колькино, иными словами, свое детство — не одни лишь эпизоды, встречи, стычки, но и чувство, вынесенное из этого охваченного пламенем ужаса. Он не делает вид, будто былое поросло быльем. (Его интервью «Московским новостям» так и называется: «Что было — то было, но быльем не поросло».) Не поросло — значит, присутствует в нашей жизни не только памятью о минувших временах, но и настроениями, взглядами тех времен. Если настроения, взгляды, то, вероятно, и люди, сберегающие их.
К концу повести замечаешь: в начале ее писатель неспроста назвал подлинную фамилию, имя, отчество директора детского дома. И не потому лишь, что испытывал потребность сказать о «жирных крысах тыловых», которые наживались где угодно, на чем угодно и способны были обворовывать вечно голодных сирот. (Вспомнилась пословица тех дней: «Кому война, кому — мать родна».) Не стал бы А. Приставкин, чуждый мстительности, высказывать свое непрощенье человеку, который коль и дожил до наших дней, то давно ходит в пенсионерах и никому не в состоянии принести зла. Впрямь не в состоянии?
В гневных строчках, посвященных директору-жулику, встречается слово, употребленное вроде бы не совсем по адресу, — «наполеончик». Но брошено оно неспроста и уж никак не в ослеплении. В него вложен смысл, доходящий до нас, уже когда мы читаем последние главки. Одна из них начинается встречей в бане, в Лефортове, продолженной в стекляшке неподалеку, где всласть, со смаком попарившиеся, вполне крепкие пенсионеры балуются пивком и ведут откровенные разговоры, благо чувствуют себя среди своих, узнают друг друга с первого взгляда, понимают с полуслова.
Описана эта встреча с холодной яростью, когда все замечается и всяко лыко в строку; и не символы нужны повествователю, а сами «наполеончики», живущие своими «Аустерлицами», ни о чем не сожалея, ни в чем не раскаиваясь, неизменно уверенные в своей правоте и правоте того чей приказ они ревностно исполняли в кавказских боях. Нет, не с немцами, прорвавшимися к Клухорскому перевалу и Новороссийску, — с безоружными ингушами и чеченцами.
«Всех, всех их надо к стенке! Товарищ Сталин знал, за что стрелял! Не добили мы их тогда, вот теперь хлебаем».
Откуда это настороженное внимание писателя к речам, прозвучавшим за пивной кружкой?
Сорок лет жгла его память о детском доме — вначале подмосковном, потом — кавказском. Начни эта память ослабевать, пенсионеры из стекляшки с пивными автоматами ее бы оживили. И все-таки тревога, рожденная собственной памятью о прошлом и воспоминаниями пенсионеров о том же прошлом, — это тревога о будущем. Настоящий писатель не садится за стол, обратясь затылком к завтрашнему дню. Мысль А. Приставкина вызревала давно и теперь отлилась в исповедально-обличительные слова, раскрывая опасность замшелых «наполеончиков». Они не смеют пожаловаться на отсутствие наследников. Среди наследников попадаются и притаившиеся, терпеливо надеющиеся на свой час, и воинственно откровенные, вроде, скажем, Обера-Кандалова из айтматовской «Плахи», все тем же именем творящие свои новые злодейства.
Откуда их живучесть, неколебимая уверенность в давней, нынешней и — вот что поразительно — будущей правоте?
С горестной задержкой ищем мы ответ на этот вопрос, начиная сознавать размеры опасности, не укладывающейся в период, отведенный для нее задним числом, в надежде, будто достаточно такой период снабдить соответствующей рубрикой, и все дурное останется позади.
«А ведь, не скрою, — пишет А. Приставкин, завершая рассказ о пенсионерах из пивной, — приходила, не могла не прийти такая мысль, что живы, где-то существуют все те люди, которые от Его имени волю его творили.
Живы, но как живы?
Не мучат ли их кошмары, не приходят ли в полночь тени убиенных, чтобы о себе напомнить?
Нет, не приходят.
Поиграв с внучатами, они собираются, узнавая друг друга по незримым, но им очевидным приметам. Печать, наложенная их профессией, видать, устойчива.
И сплачиваясь, в банях ли, в пивных ли, они соединяют с глухим звоном немытые кружки и пьют за свое здоровье и свое будущее.
Они верят, что не все у них позади…» Не только в банях и пивных, и не только те лишь, кого могут, но не мучают тени убиенных. Кем, скажем, на склоне лет стал солдат-охранник, в чьей молодой еще голове перемешались понятия «дружба народов» и «чечмек»? Какую веру он старался привить своим детям?
А мемуары, повести, статьи, где соблюдается никого не обманывающее «равновесие», призванное изобразить авторскую бесстрастность и скрыть тоску по «твердой руке»? Кстати, авторы эти тоже безошибочно узнают друг друга по им очевидным приметам. Впрочем, приметы очевидны не только им…
Ознакомительная версия. Доступно 11 страниц из 73