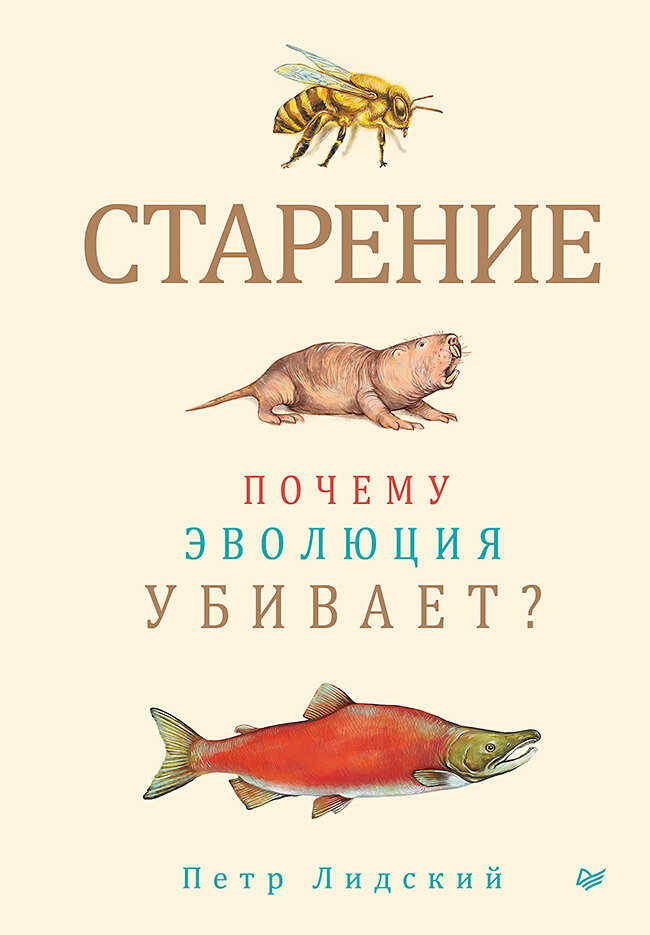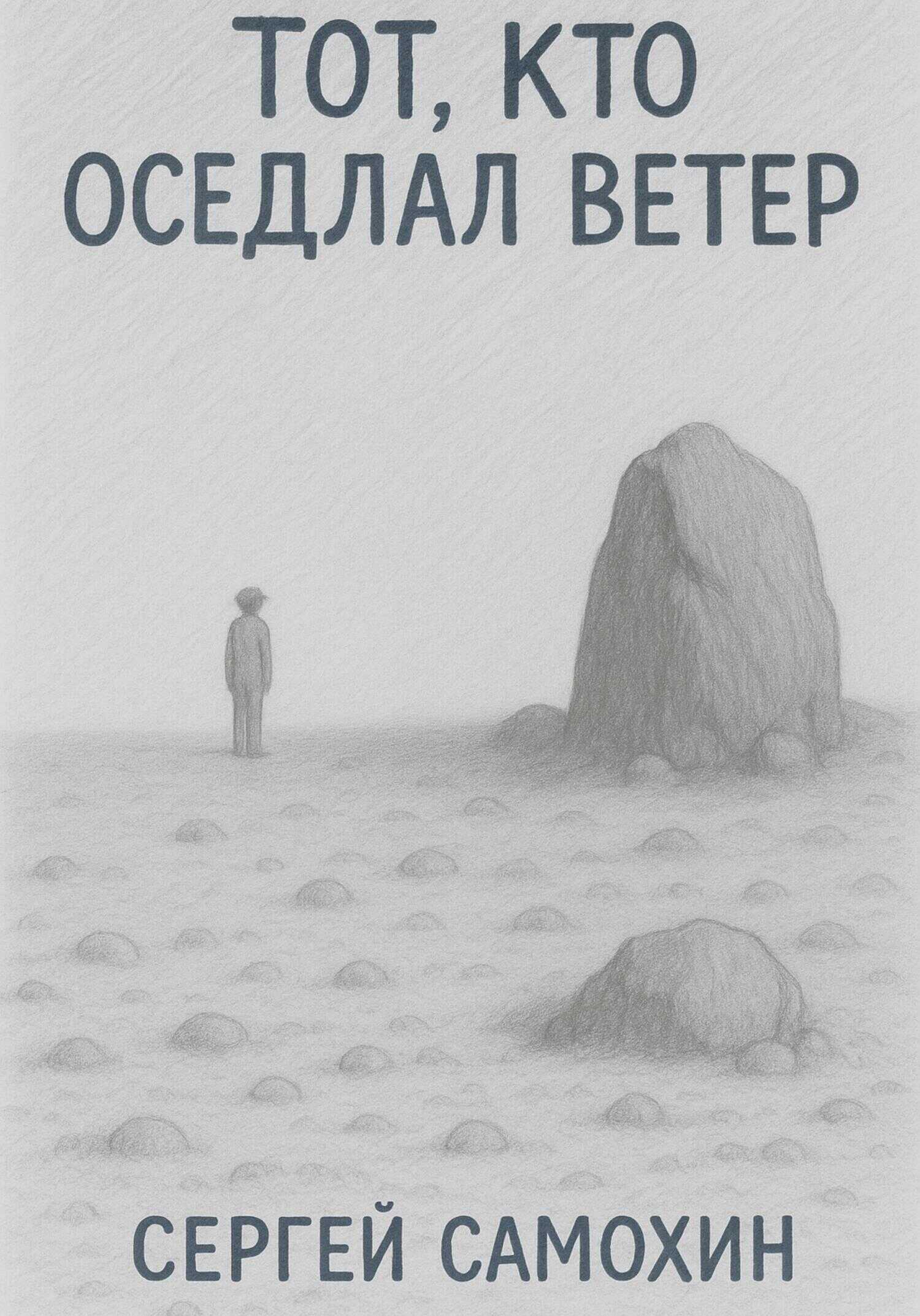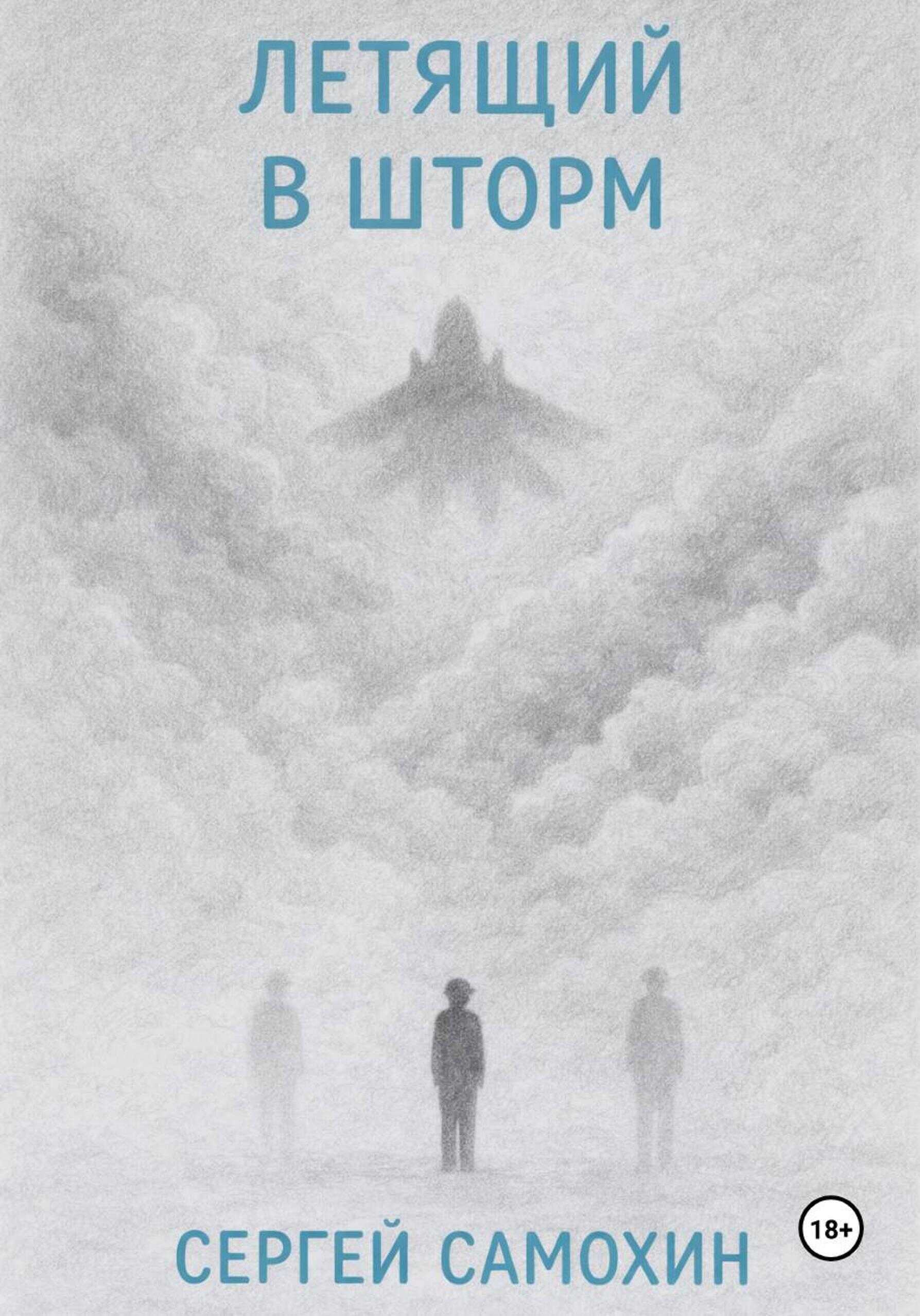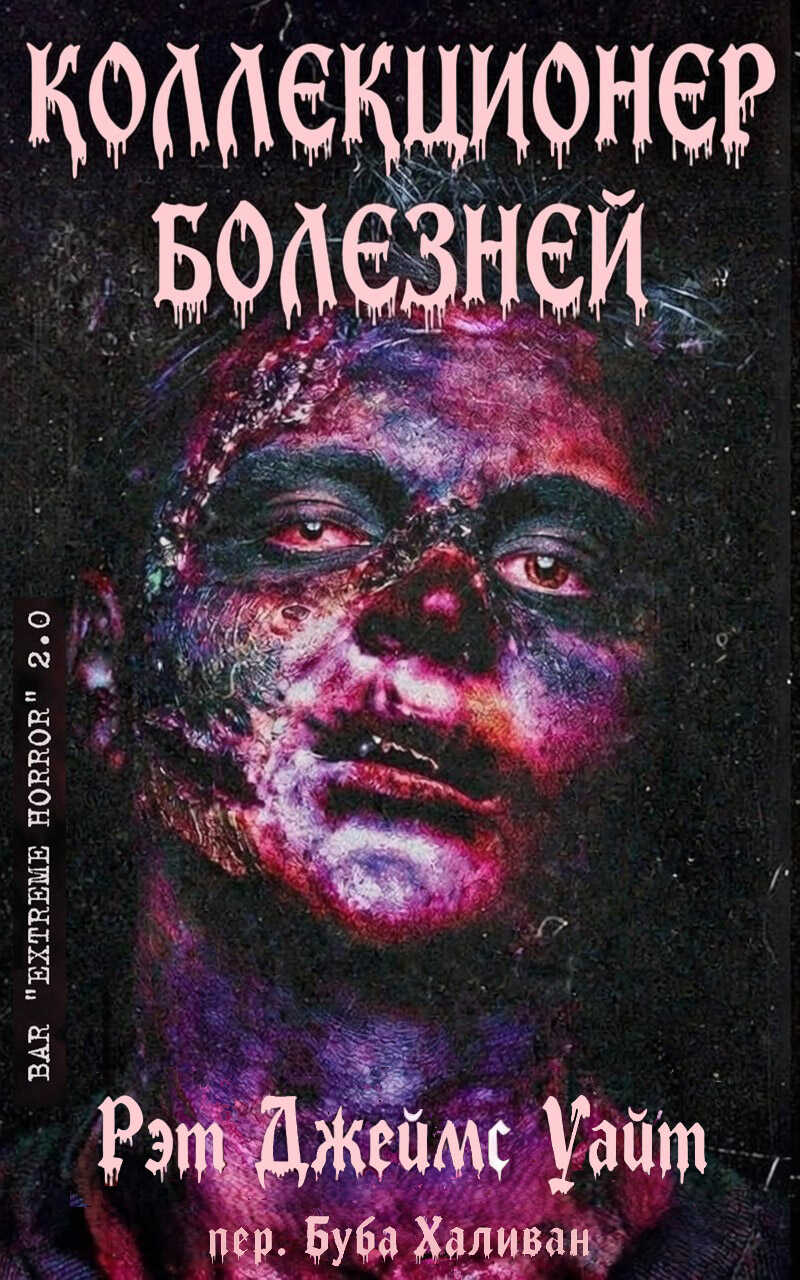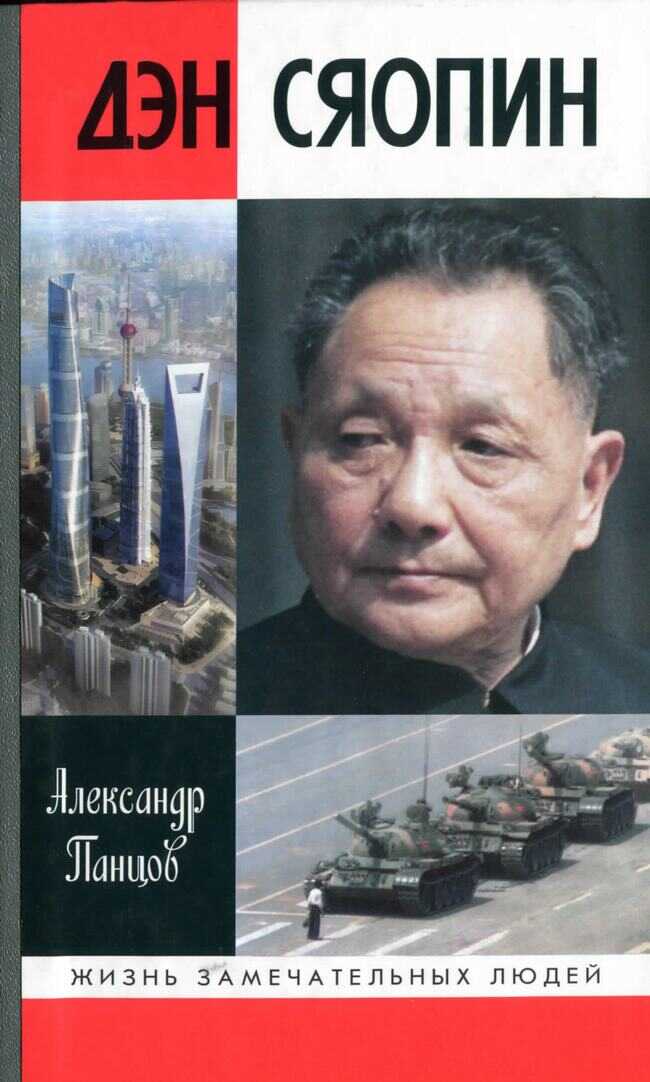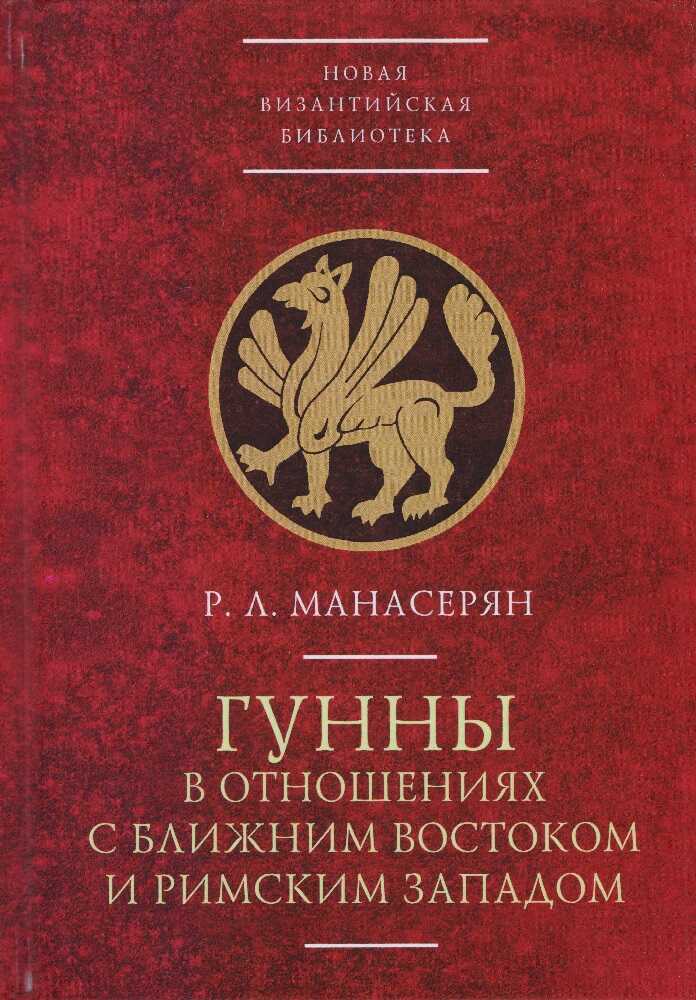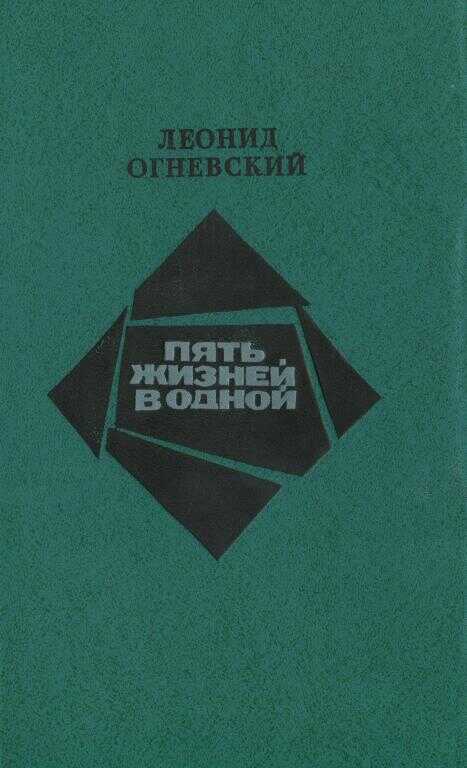Гудки паровозов
ПЕСТРУШКА
Проселок пролегал у подошвы горы, и отсюда Сашуня Кидяев, управляя своей легковой машиной, радостно наблюдал, как расшибалось красное солнце о стволы деревьев.
— Дьявольское утречко! — вскрикивал он и озорно тыкал подбородком в сигнальное око; звуки сирены долго кололись в ущельях и падях.
Антон поворачивал к Сашуне лицо, свежеобритое, словно натертое грифелем, и давал ему затрещину. Это означало, что он разделяет восторг Сашуни.
Заднее сидение занимали учитель физики Семен Ляпкало, горновой домны Мосачихин и директор мельницы Федор Федорович. Ляпкало сидел, прислонясь виском к никелевому ободку оконца. Кадык огромно выпирал на длинной шее. Мосачихин рассматривал искусственные мушки. Федор Федорович дремал.
Близ вяза, темневшего провалами огромных дупел, Сашуня затормозил. Машина клюнула носом в гриву осоки.
Антон закатал выше колен штанины, разложил нож, пошел срезать удилище. Ляпкало, обматывая шею красным шарфом, тревожно спросил:
— Как здесь насчет змей?
— Хватает, — сонно ответил Федор Федорович и протянул Сашуне пачку папирос. — Закури директорскую «беломорину».
Ударом ногтя по донцу пачки Сашуня выбил папиросу прямо в рот.
— Федор Федорович, а какие тут змеи?
— Медянки, гадюки. Медянок бояться нечего — безвредны. А гадюки, они могут даже быка на тот свет отправить.
Сашуня вытолкнул в сторону Мосачихина, недавно бросившего курить, обруч табачного дыма. Мосачихин презрительно сплюнул.
«Ну, ты, не больно-то ставь из себя. Нынче же как миленький закуришь».
Новый обруч в сторону Мосачихина; обращение к директору мельницы:
— Федор Федорович, вы грубую ошибку допустили: медянки ядовиты и даже сильней гадюки. Возле села Кизильского есть гора Змеиный Камень, синяя такая гора. Так там медянка укусила мальчика.
— Ну и что?
— Летальный исход, как выражаются врачи.
Федор Федорович попробовал о ноготь, остро ли жало крючка, вдернул в ушко лесу и, складывая из нее петли, затягивал их на цевье.
— Александр Михалыч, я в этих местах десятый год директорствую. Не представляют опасности медянки. В энциклопедии, между прочим, напечатано — не ядовиты.
— Мало ли что в книжках пишут. Страшная змея медянка. Гюрза еще такая.
Ляпкало омраченно хлопал глазами. Курган кадыка тревожно подымался и падал под шарфом.
— Энциклопедия… Ни в какой энциклопедии нет, что медянка залазит во внутрь человеку. До революции мой дедушка пас скот у киргизов. Спал, конечно, на природе. Перед сном рот тряпочкой завязывал. Как-то забыл завязать и после стал чувствовать: муторно в животе и непрерывно лопать хочется. Рассказал бабке. Она руками всплеснула: «Батюшки! Медянка, поди-ка, в тебя забралась. Ложись на лавку и засни. Я возле твоих губ блюдце с молоком поставлю. Медянка выползет попить, тут я ее и застукаю. И, правда, застукала.
— Ври, да не завирайся, — сказал Мосачихин.
— Оставим на твоей совести голословное заявление. Кстати, я хотел сообщить тебе, Анатолий, об очень важном наблюдении, но раз ты такой умник, воздержусь. Однако жалко, что ты вынудил меня воздержаться. Беда к твоей семье подкрадывается.
— Брось мистифицировать. Я-то знаю, что ты за фрукт.
— Семен, не слушай ты Сашуню. Он мастак вводить в заблуждение. Недавно весь цех взбаламутил. Чуть не к каждому подходил и жаловался, что внезапно поверил в бога. Понимает, что напрасно поверил и все равно не находит веских доводов, чтобы разувериться… И просит со слезами на глазах: «Объясни, дорогой товарищ, что бога не существует». Мы сдуру и разуверяли Сашуню. Кто о происхождении Земли толковал, кто про атомы, кто о мичуринском учении. А потом? Потом он несколько дней подряд высмеивал нас. Придем мыться в душевую, он уж там. Выскочит на середку пола и к нам: «Дорогие работяги и инженерно-технический персонал, разрешите показать представление «Мой путь к безбожию». И так пройдоха изображал всякого, кто делал ему антирелигиозные припарки, мы прямо животы надрывали со смеху.
Когда Мосачихин рассказал о Сашуниной проделке, Федор Федорович размечтался. Неплохо было бы заполучить на мельницу шутника, наподобие Кидяева. Иногда что-нибудь и не так отмочит, зато жить весело.
Ноги Ляпкало ходили ходуном. Он делал вид, что сильно озяб. На самом деле ему было тепло: шерстяная кофта, ватник, лыжные брюки, тупорылые ботинки с латунными нашлепками, скрепляющими переда с головками, — но он боялся, что его ужалит змея, и потому притаптывал траву вокруг того места, где стоял. С детства неустранимым суеверием застряла в голове Ляпкало мысль, что он погибнет от змеиного укуса. Пацаном, вот так же на рыбалке, он сел на ворох соломы. Под ягодицами зашевелилось. Он вскочил. Соломинки раздвинулись. Среди них заблестел черный, раздвоенный, цепенящий язычок. Как-то после он плыл по быстрой речке. Из-за камней вывернулась темная, словно копотью покрытая гадюка. Он метнулся навстречу струям, она тоже. Он скользнул вниз по течению, она вслед. Не догадайся он нырнуть, возможно, давно бы покоился на городском кладбище.
За черемушником раздалось насвистывание, с кустов посыпались капли. То был Антон. Продравшись сквозь черемушник с удилищами из тальника, он пошел через поляну, высоко поднимал ноги, облепленные былинками, рогатыми семенами, лепестками иван-чая.
Все залюбовались им, даже угнетенный тягостным ожиданием Ляпкало. Русые, с медным отблеском волосы Антона затейливо спутались, пышно торчали над лбом, вздутым меж переносьем и мыском шевелюры мощной веной. Сшитый из маскировочного халата пиджак раскидывал полы, мышастая кепка, заткнутая под солдатский ремень, лихо торчала козырьком вверх.
— Слышь, Антон, — сказал Сашуня, — в Ленинграде я видел гранитных мужиков, они крышу подпирают… Поставить бы тебя вместо гранитного мужика, тоже бы смог крышу держать?
— Запросто.
Антон засмеялся и отпустил Сашуне подзатыльник. Сашуня нырнул в траву, будто не устоял. Под хохот приятелей он полежал недвижно и перевернулся на спину.
— В тюрьму захотел угодить? А то я устрою пятнадцать суток. Старше себя бьешь. Мне как-никак тридцать три, а тебе двадцать семь. Молокосос.
— Ну, шкодник, ну, шкодник, умает. За Семена угощение получил. Не стращай.
— И не собирался стращать. Проконсультировал да и только.
— Слышал я в талах, как ты его консультировал. Бедовую душеньку свою тешил.
— Стану я Семена обижать. Парень










![Зов Ктулху [сборник] - Говард Лавкрафт](/uploads/posts/books/423288/423288.jpg)