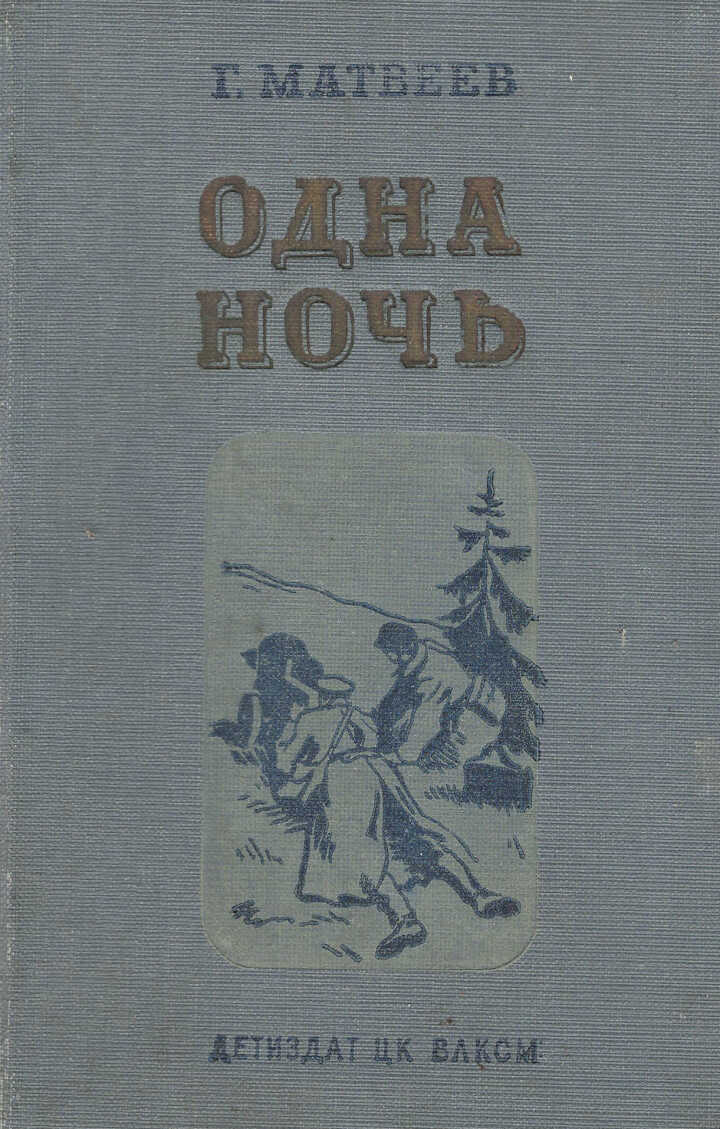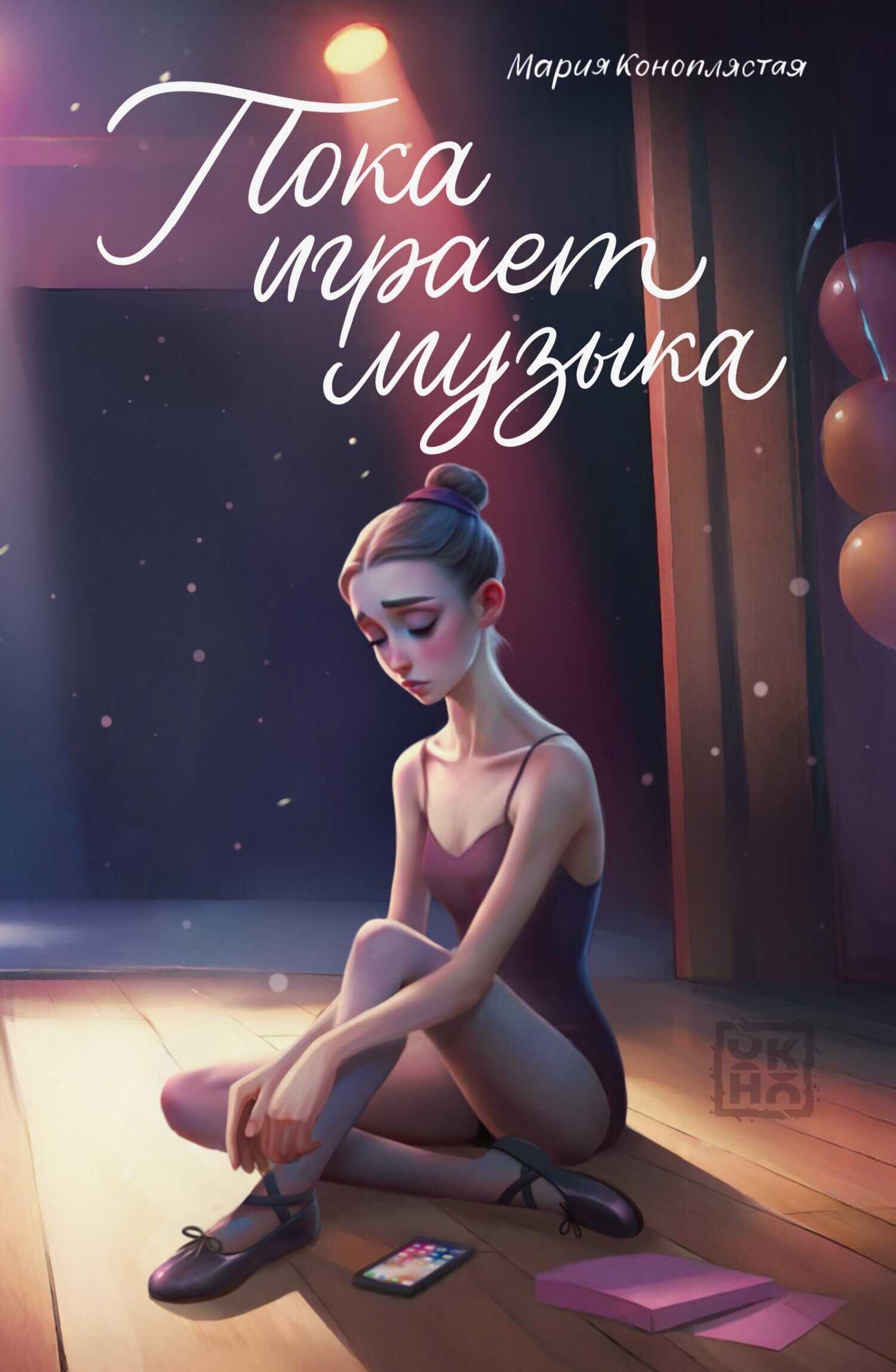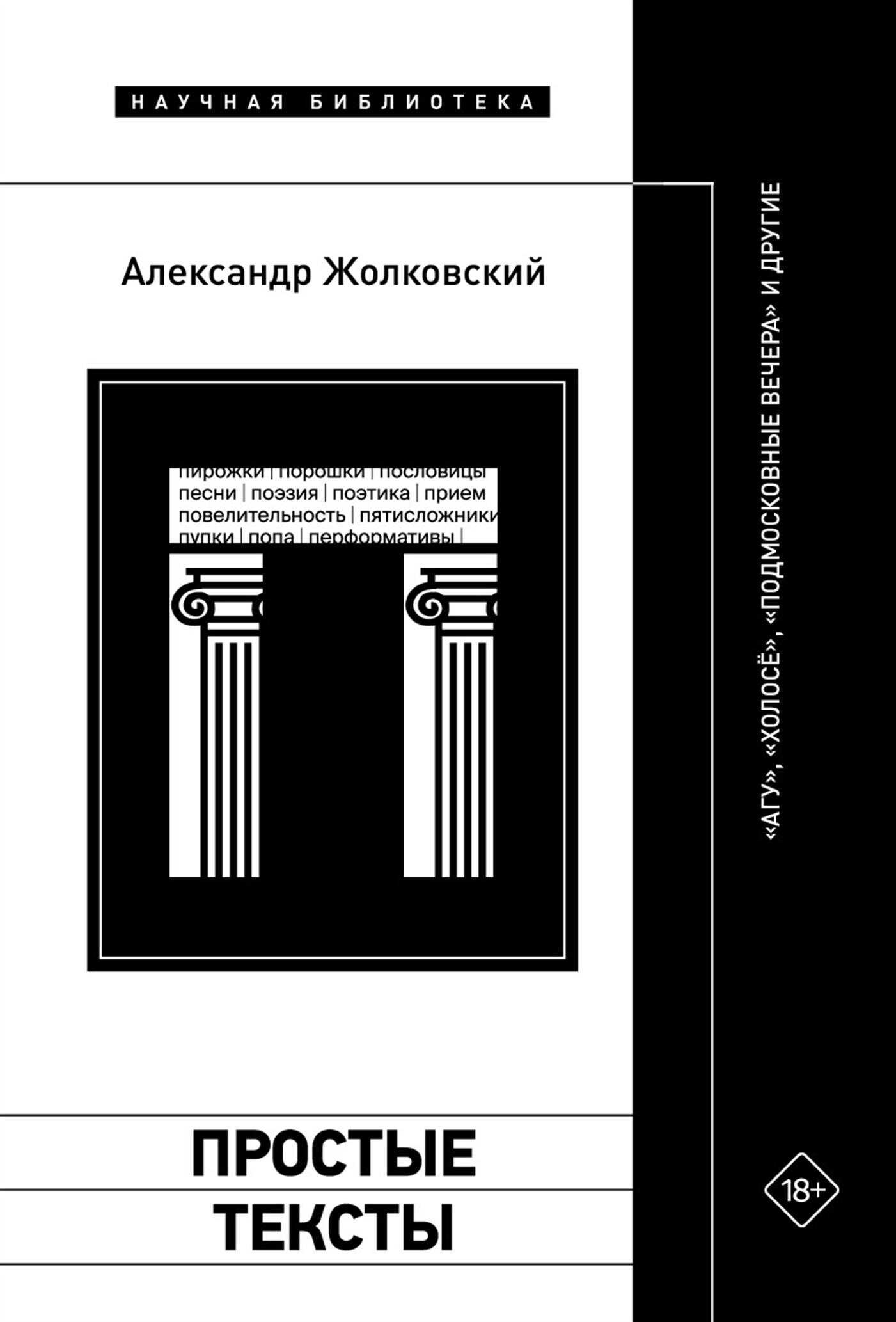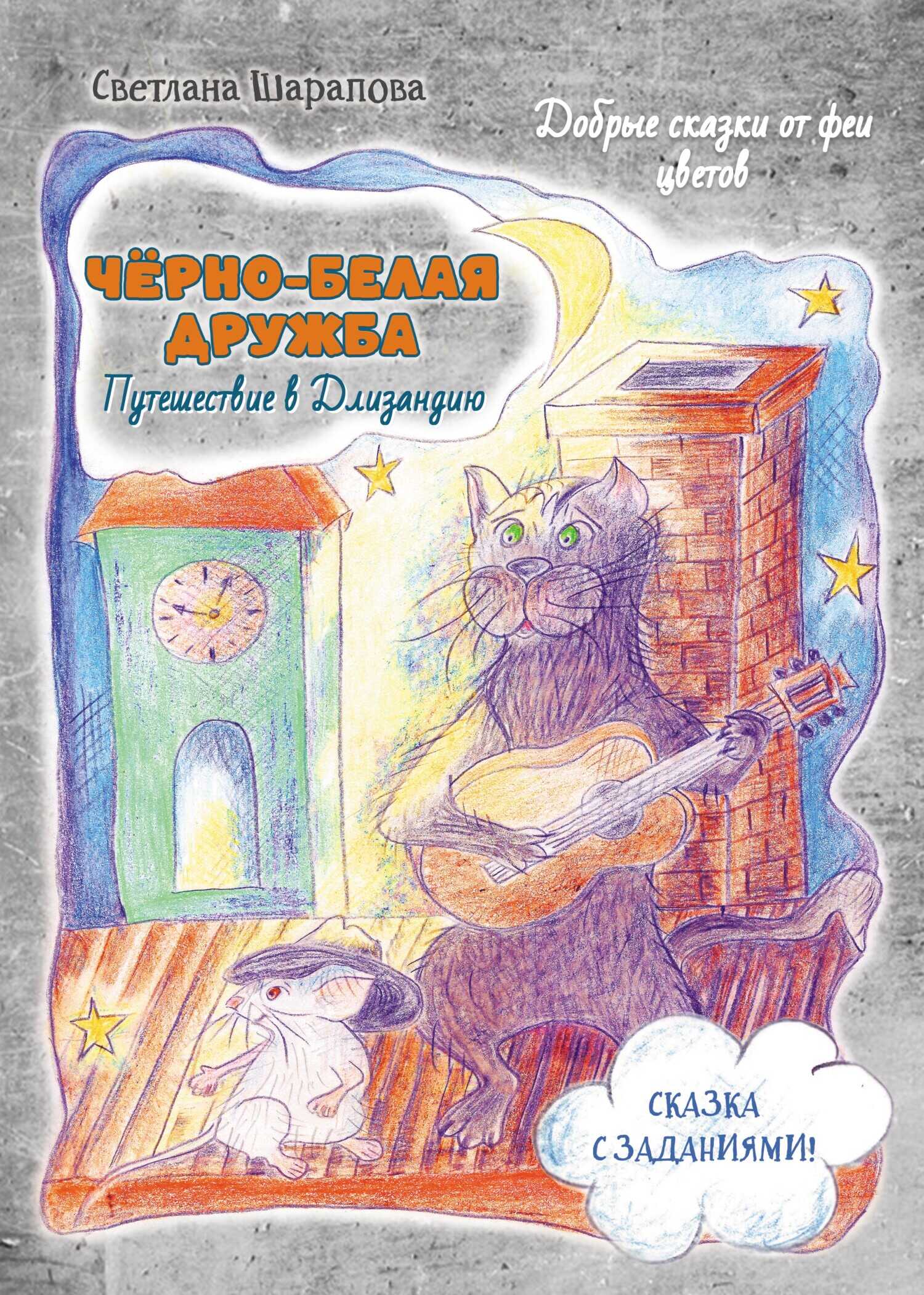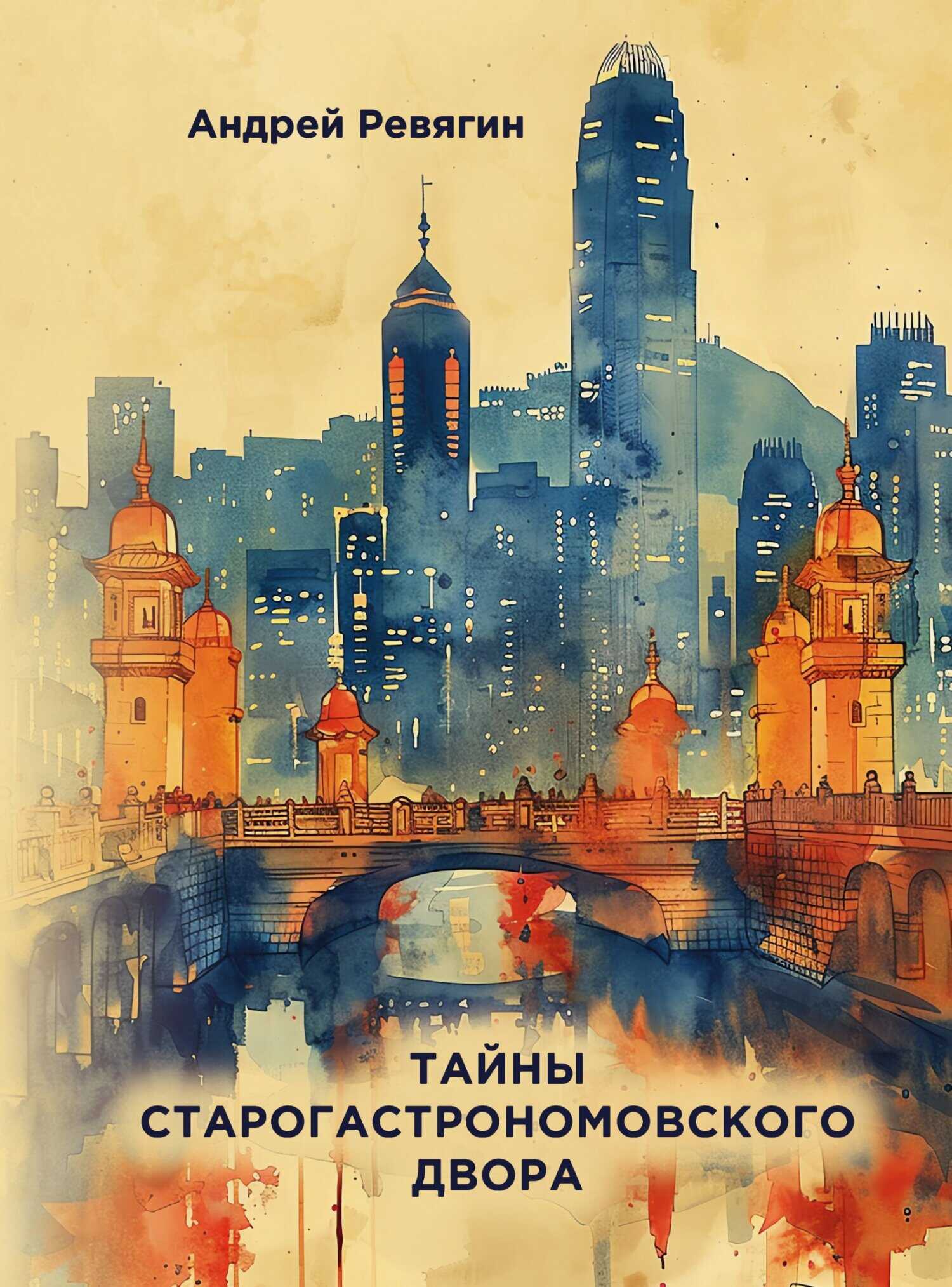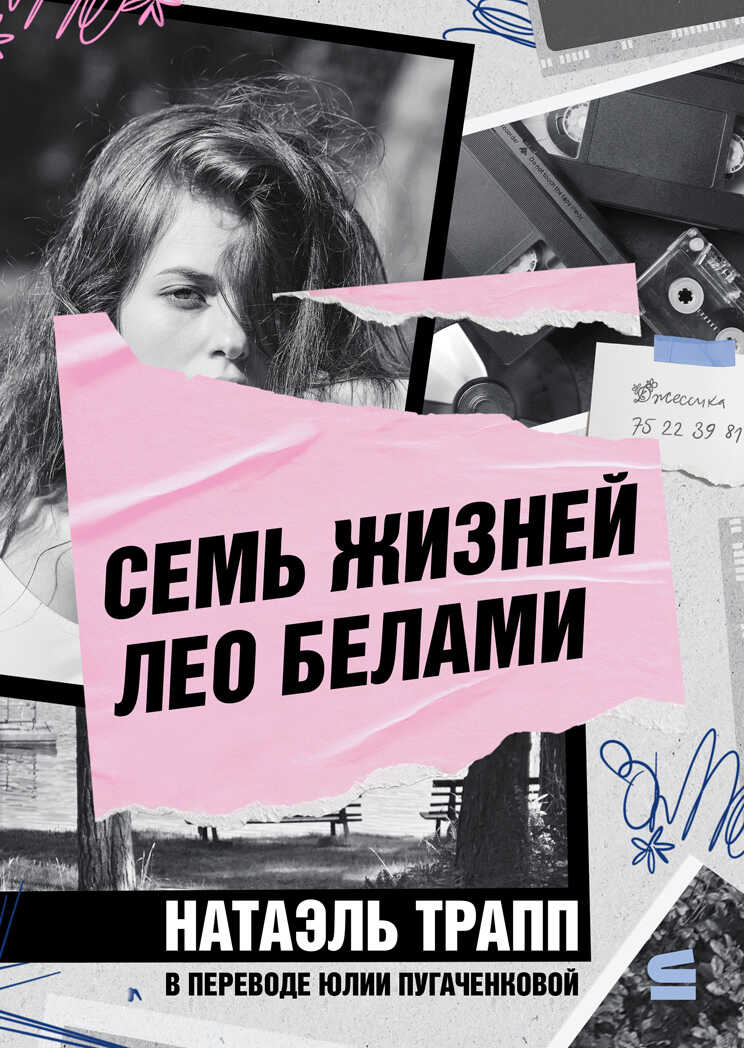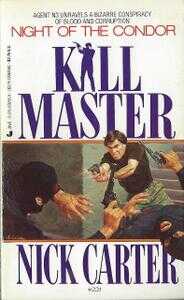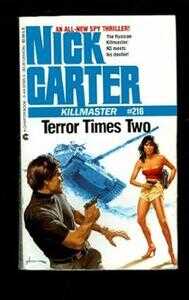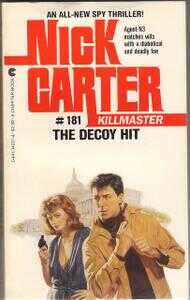Всеволод Бобровский - Падение путеводной звезды
понятным языком.
– Гляди, какой дурак, – сказал военный водителю грузовика, который стоял тут же,
на нашей улице. – Проспал побудку, в подвале у себя задрых. Еще бы чуть-чуть – и
остался здесь.
– Бросай его в кузов, – ответил тот. – В лагере разберемся.
– Полезай, соня, – улыбнулся мне военный, и тут я заплакал, заплакал, бессильно
повиснув у него на груди.
– Дядя офицер… – причитал я, будто ребенок. – Сестру заберите… Бабушку,
дедушку… Дядя офицер… Мы победим? Мы победим? – рыдания сотрясали меня, я бился
головой о его могучую грудь и слышал участившееся биение сердца. Я подумал тогда, что
у него, может быть, тоже есть сын, и где-то там, дома, он думает о своем отце и скучает.
– Ну что ты, что ты, – сконфуженно говорил военный. – Ну успокойся… Не плачь…
Отставить…
– Мы победим? Мы ведь точно победим? Победим и вернемся?
– Конечно, парень, – ответил он мне, но в его голосе я не услышал такой нужной
мне уверенности. – Наверное… Мы победим.
Сестру в эвакуации я так и не нашел – очевидно, ей действительно удалось
остаться дома. Нашел, правда, дядю, который сперва крепко меня обнял, а потом столь же
крепко выругал за побег.
Лагерь раскинулся в подгорной степи, перелопаченной линиями окопов,
иссеченной колючей проволокой и деревянными настилами огневых рубежей. Безмятежно
покачивался на ветру жухлый чертополох, редкие оазисы диких груш увядали под
августовским солнцем. В километре от лагеря шумела бурная, но неглубокая речушка,
скрывая на дне своем склизкие замшелые камни. Я подворачивал штаны до колен и
переходил ее вброд. Ледяные потоки жалили мои разгоряченные лодыжки. На том берегу
росли невысокие черничные кусты, буйно расцветали похожие на яичницу ромашки,
гнулся к земле густо-зеленый папоротник.
Лагерь просыпался рано утром. Приемник искал нужные радиочастоты, бойко
стучал телеграф, рычали и фыркали грузовики, отправляясь по полуразведанной дороге за
продовольствием. Мужчины отправлялись на охоту в лес, только военные оставались в
карауле. Их карабины всегда были на взводе. Причитали старики, плакали дети и только,
кажется, я один оставался с виду безмятежным.
Она тоже была здесь.
Впервые мы с ней встретились взглядами, когда грузовик, привезший меня,
забуксовал в яме на полпути к лагерю. Я спрыгнул на горячий песок и помогал взрослым
мужчинам, военным, вытолкнуть машину на дорогу. И среди тех, кто шагал мимо по
обочине – унылых, отчаявшихся, уставших от долгого пути и палящего солнца – я увидел
ее. Она была так же прекрасна, как когда я повстречал ее в первый раз, так же прекрасна,
как когда я целовал ее губы и подглядывал сквозь щелки век за ее счастливым и
взволнованным лицом. На ней было грубое холщовое платье до колен, волосы были
заколоты в пучок на затылке вязальной спицей, а лицо покрылось грязными разводами,
как бывает, когда пыль липнет к поту – или слезам. Но она все еще оставалась прекрасной.
Она глянула на меня – словно током ударило. Сердце упало куда-то в желудок и забилось
там часто-часто. Наверное, я покраснел. А она гордо вскинула голову и пошла себе
дальше. Тогда я с важным видом залез в кузов и отвернулся – в надежде на то, что она
будет смотреть мне вслед и думать о том, кого она потеряла.
Спустя несколько недель нас двоих назначили на дежурство в полевой кухне –
чистить картошку. Я залился краской, она презрительно сомкнула губы и не проронила ни
слова до тех пор, пока я не собрался с силами и не вымолвил участливо:
– Ну, как ты?
И тут разразился гром, кончилось затишье перед неминуемой бурей, полыхнула
молния в небесах. Она оглянулась по сторонам – не слушает ли кто? – и шепотом
закричала:
– Как я? Как я?! Только об этом и мечтаешь – как бы упрекнуть меня, как бы
больнее уколоть! Тебе все рассказали, ведь так?
– Что рассказали? – удивился я.
– Не притворяйся! Ты все прекрасно знаешь!
Наконец я не выдержал:
– Не знаю я ничего! Либо говори прямо, либо замолчи, дура несчастная!
Она тут же утихла, глянула на меня своими прекрасными глазами, вздохнула и
вдруг горько заплакала:
– Он… меня бросил…
Я и сам не заметил, как оказался возле нее. Нож выпал на землю из ее
обессиленных рук. Я неосторожно опрокинул таз, в котором плавала картофельная
шелуха, но она не обратила на это внимания. Она горько рыдала, а я обнимал ее за плечи и
успокаивал:
– Тихо, тихо… Значит, так надо…
– А ведь ты прав, – окончательно выплакавшись, сказала она и утерла слезы кистью
руки. – Так и надо. Может быть, сегодня вечером пойдем на речку? – она улыбнулась, и я
улыбнулся в ответ.
Мы пошли на речку и долго говорили там, говорили, как добрые друзья. Она
рассказала о том, что случилось в школе, пока меня не было. Я рассказал о военных,
которые везли меня в грузовике, о том, что сестра осталась дома с бабушкой и дедушкой.
Много теплых слов было тогда сказано ею в мой адрес, и я уже окончательно забыл все
обиды. Мы много смеялись, много дурачились, толкая друг друга в заросли папоротника,
плещась холодной водой, и вдруг она остановилась. Сказала очень серьезно:
– Поцелуй меня.
И тогда я не смог ослушаться.
Мы упали в траву. Багровое солнце уже опустилось за горизонт, в лесу смеркалось.
На темнеющем небе проступали серебряные капли звезд. Ярче всех светила та, что
находилась прямо над моей головой, она словно подмигивала мне, то скрываясь за
вечерними облаками, то вновь выглядывая из-за них. Теплый ветер тревожил раскидистые
сосны, играл в их вершинах, гулко дул прямо над нашими головами. Я помню, как неловко
управлялся я с завязками на ее простеньком платьице, как она горячо дышала мне на ухо и
шептала волнующие слова. Она уже осилила эту сложнейшую из наук – науку любви, в
которой я был еще полным профаном.
– Давай же, давай… – приговаривала она. – Не бойся…
Домой мы возвращались по темноте, и я стыдливо глядел на нее, а она легко и
беззаботно держала меня за руку и напевала что-то себе под нос.
– Так будет всегда? – спросил вдруг я.
– Может быть, – она хитро подмигнула мне и толкнула в крапиву. Я упал, не
чувствуя боли. Я все еще был влюблен в эту девушку, и теперь эта влюбленность
стократно возросла. Но гордость и внезапно проснувшаяся обида не позволяли мне об
этом сказать.
Миновал август, и наш разношерстный табор вновь засобирался в путь. Военные
говорили, что дорога нам лежала на юг, где два больших города готовились нас принять.
Старики кряхтели и недовольно морщились:
– Поселят в бараках… А дело к зиме…
Но мы, молодые, хотели другой жизни, хотели уйти прочь из голой, сухой степи,
хотели испробовать нового, пожить в толчее и суматохе, раз этого требовали
обстоятельства.
Накануне отъезда она примчалась ко мне, раскрасневшаяся, запыхавшаяся, нервно
повела плечами и сказала:
– Слушай… Слушай… Я, кажется…
– Что? – встревожился я.
– По-моему, я… ношу ребенка.
Я обмер.
– Что же делать?
В ответ она тихонько заплакала. Я обнимал ее за плечо, понимая, что утешения
напрасны, что слова мои прозвучат глупо и бесполезно. Я мог бы пообещать ей золотые
горы, мог бы соврать с три короба, и ей стало бы на время легче. Но я промолчал, только
обнял и закрыл глаза.
На следующий день мы разъехались в разные стороны. Я сдержанно простился с
ней, виновато глянул на ее отца, а он по-простецки пожал мне руку, кивнул дружелюбно и
увел ее в одну сторону, а грузовик, на котором ехали мы с дядей, двинулся в другую.
Чего я только не передумал в тот злосчастный день…
Только войдя в барак, где нас поселили, я упал на черные, грубо сколоченные нары
и тут же забылся. Меня не тревожил ни гул приглушенных разговоров, ни крики
комендантов, ни тяжелый стук ведер, ни шелест ночного огня. Я спал, не видя снов,
бездыханно, как труп.
Лишь на рассвете я проснулся от колкой сентябрьской прохладцы. Барак мирно
посапывал, кто-то кутался в грязные овчины, кто-то приговаривал во сне, кто-то вертелся,
пытаясь устроиться на неудобных нарах. Я вышел, умылся студеной водой из колодца.
Ноги мои утопали в холодной росе. Над большим городом плыл сиреневатый утренний
туман. Селянские подводы тянулись по проселочной дороге – наступал базарный день.
Фыркали лошади, щелкали нагайки, негромко переругивались крестьяне, сплевывая в