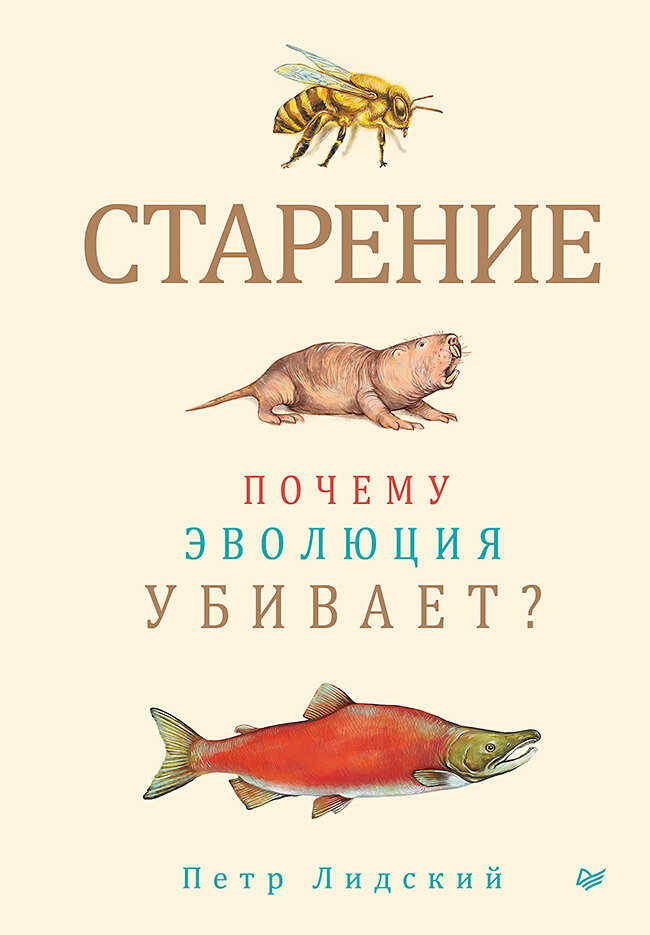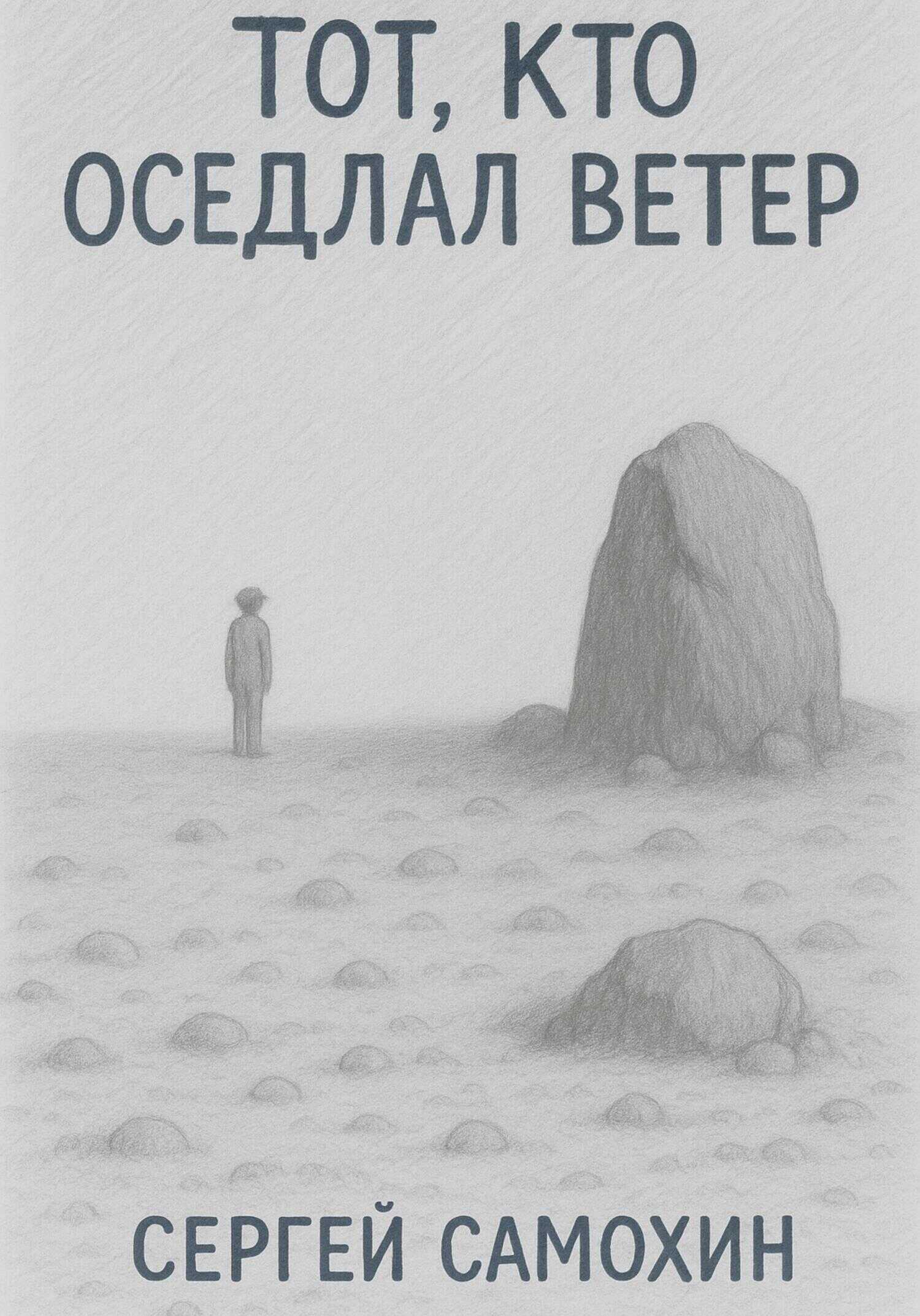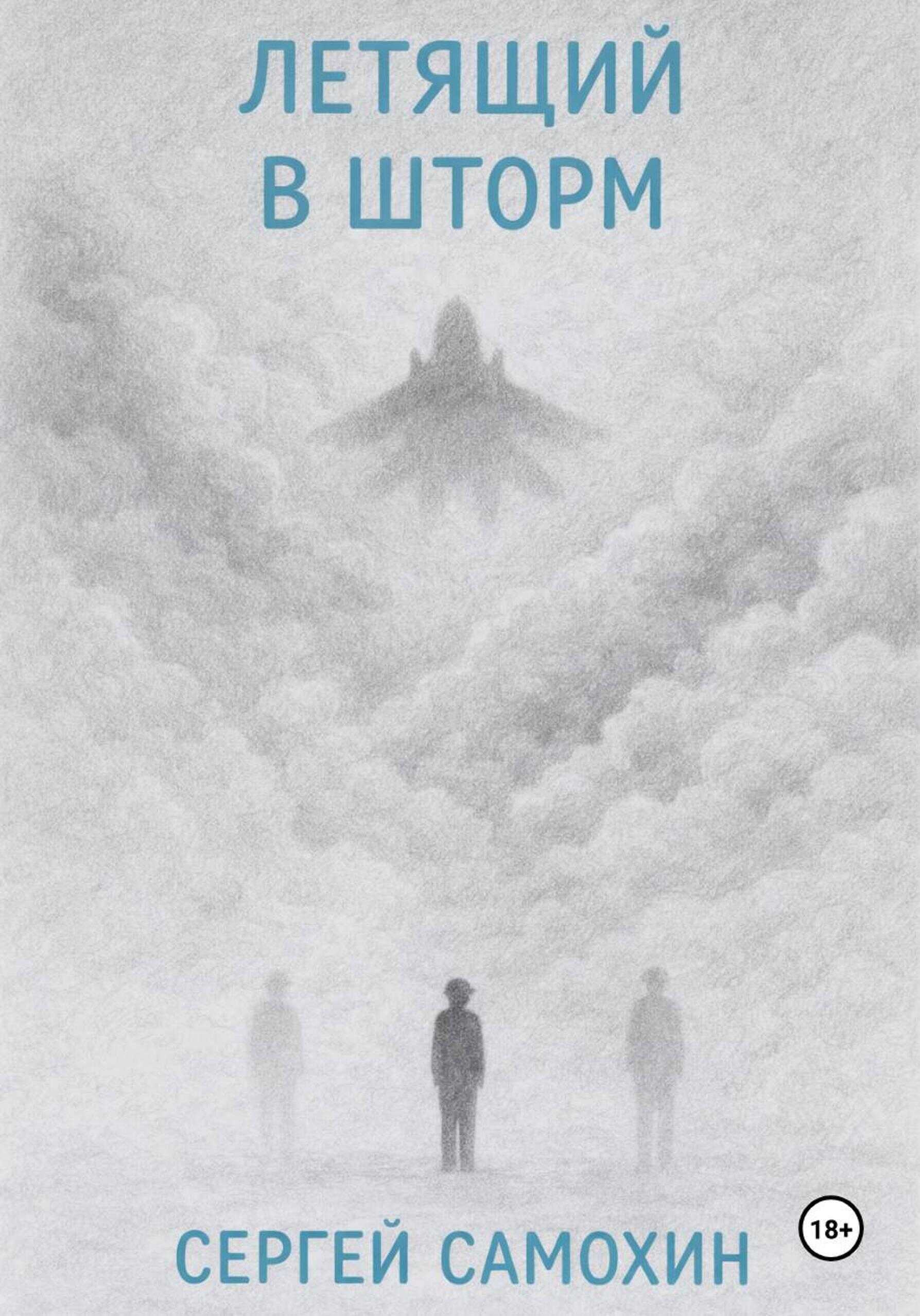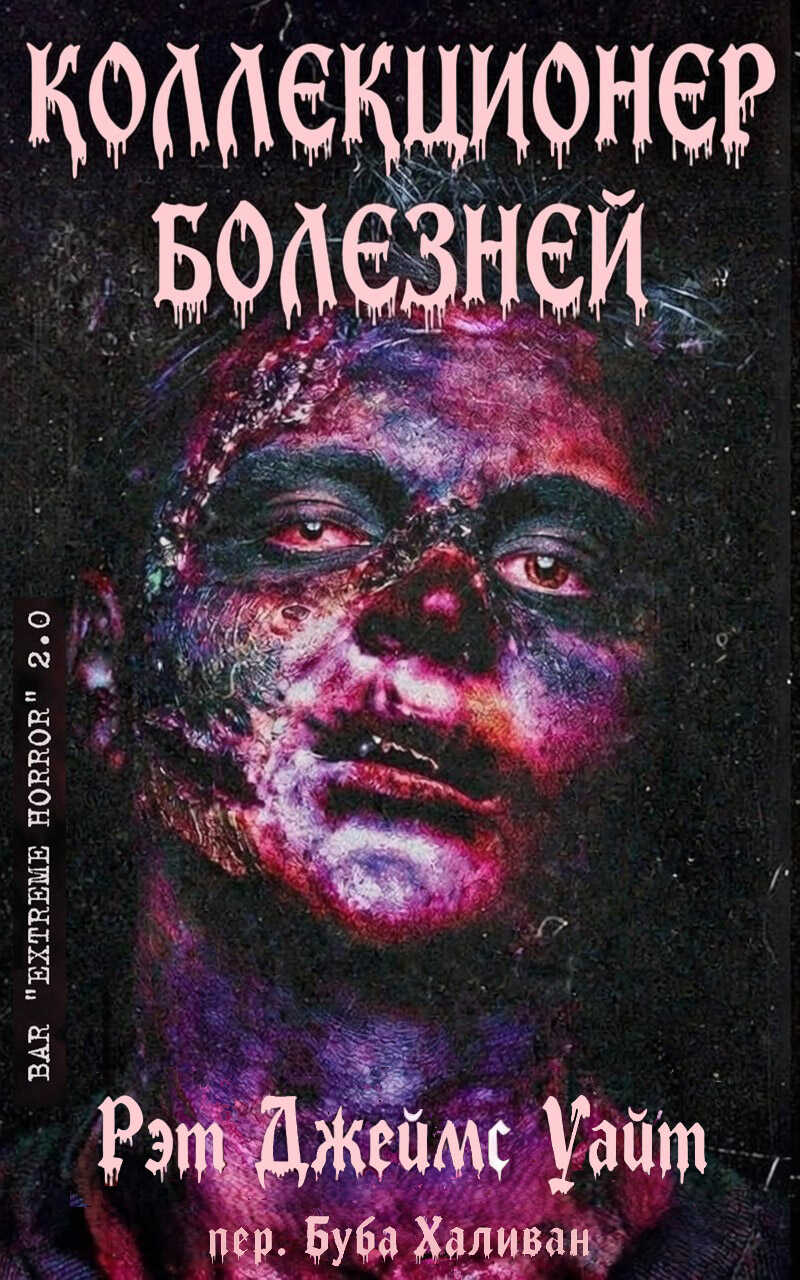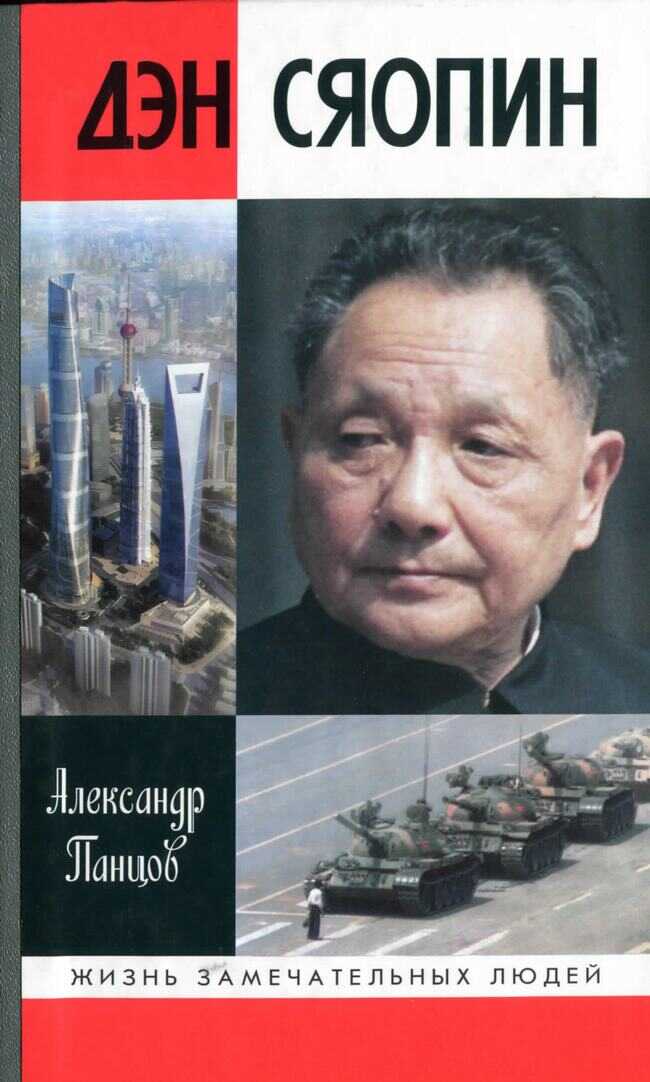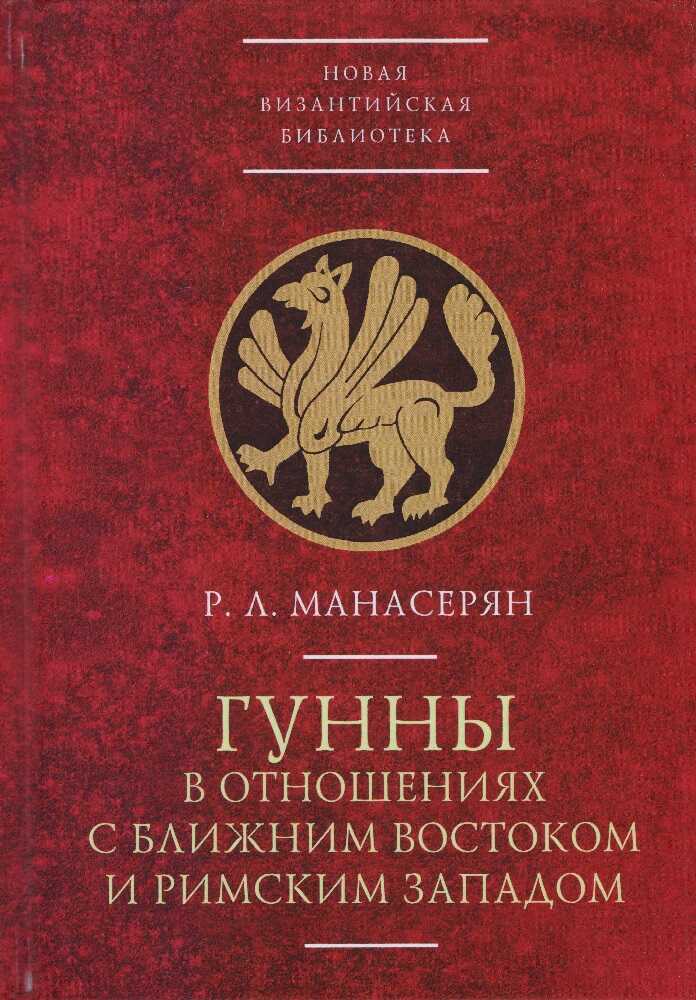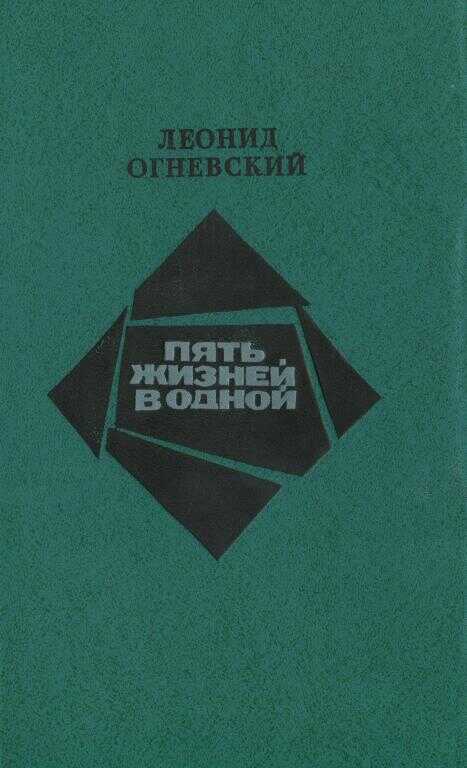Эдгар Аллан По
Сердце-предатель
Правда, что я нервозен, страшно нервозен, и всегда был таким; но зачем же вы говорите, что я сумасшедший? Болезнь довела мои чувства до большей утонченности, но не уничтожила их, она не притупила их. Слух был у меня развит сильнее других чувств. Я слышал все, что делалось на земле и на небе. Слышал многое в аду. Отчего же я сумасшедший? Слушайте и заметьте, как здраво, как хладнокровно расскажу я вам целую историю.
Не знаю, как закралась в мою голову мысль; но, попав туда, она не давала мне покоя ни днем, ни ночью. Причины не было, страсть не была возбуждена, — я любил старика; он не сделал мне никакого зла; он никогда не оскорблял меня; золота его я не желал. Мне кажется, причиной был его глаз! Да, это было так. Один из его глаз походил на глаз коршуна, — светло-голубой, с бельмом. Всякий раз, как этот глаз устремлялся на меня, кровь во мне застывала… и медленно, постепенно, я решил лишить жизни старика и его смертью избавиться навсегда от его глаза.
Теперь вот в чем дело. Вы считаете меня сумасшедшим. Но разве сумасшедшие понимают что-нибудь? а вы посмотрели бы на меня: с какими предосторожностями, с какой предусмотрительностью, с какой скрытностью я принялся за дело! Я никогда не был так внимателен к старику, как в продолжение той недели, которая предшествовала убийству. И каждую ночь, около двенадцатого часа, я поворачивал ручку его двери и отворял ее тихо, тихо. Отворив настолько, чтобы просунуть голову, я просовывал осторожно потайной фонарь, плотно, плотно закрытый и нисколько не просвечивавший, и потом просовывал голову. Вы расхохотались бы, если бы увидели, с какой ловкостью я просовывал голову! Я двигал ею тихо, очень тихо, чтобы не потревожить сон старика. Я употреблял целый час на то, чтобы просунуть голову настолько, чтобы видеть старика на постели. Неужели сумасшедший был бы так расчетливо осторожен? Просунув голову, я осторожно отворял потайной фонарь, — и как осторожно, как осторожно, если бы вы знали, потому что шарнер скрипел. Я открывал фонарь настолько, чтобы незаметный луч света падал на глаз коршуна. И это я делал в продолжение длинных семи ночей, — каждую ночь, ровно в двенадцать часов; но глаз всегда был закрыт, и мне невозможно было исполнить свое намерение, потому что меня раздражал не старик, а его дурной глаз. И каждое утро, когда рассветало, я смело входил к нему в комнату, ласково называл его по имени и осведомлялся, как он провел ночь. Вы видите, что он был бы слишком догадливым стариком, если бы стал подозревать, что всякую ночь, ровно в двенадцать часов, я наблюдаю его во время его сна.
В восьмую ночь я еще с большими предосторожностями отворил дверь. Даже часовая стрелка движется быстрее, чем двигалась моя рука. Никогда до этой ночи я не сознавал громадности своих способностей, своей сообразительности. Я едва удерживал в себе чувство торжества. Сознавать, что я тут, что я отворяю понемногу дверь и что он не подозревает даже о моих тайных мыслях! Я даже легко засмеялся, и он, вероятно, услыхал мой смех, потому что повернулся в постели, как будто просыпаясь. Вы, может быть, думаете, что я ушел? Нет. В комнате было темно, как в трубе, и я знал, что он в впотьмах не может видеть приотворенную дверь… Я все более и более отворял ее.
Я уже просунул голову и хотел отворить фонарь, как палец мой щелкнул о жестяную задвижку, и старик сел на постель и спросил: — "Кто тут?"
Я остановился и молчал. Целый час я не шевелил ни одним мускулом, и все это время слышал, что старик не ложится. Он все сидел и прислушивался, точно как я делал в продолжение целых ночей, прислушиваясь к червяку, стучащему в стене.
Но вот я услышал слабый стон, и это был стон смертельного страха. Это был глухой и подавленный вздох, вырвавшийся из души, переполненной ужасом. Звук этот хорошо был мне знаком. Сколько раз по ночам, ровно в двенадцать часов, в то время, как все спали, он вырывался из моей собственной груди, увеличивая своим ужасным эхом ужас, подавлявший меня. Я говорю, что стон был мне знаком. Я знал, что испытывал старик, и мне было жаль его, хотя я в душе хохотал. Я знал, что он не засыпал с той самой минуты, как проснулся и повернулся в постели. Страх его все увеличивался. Он старался уверить себя, что страх его беспричинный, и не мог. Он говорил сам себе, что это ветер в трубе, что это мышь под полом или сверчок, крикнувший где-нибудь. Да, он хотел придать себе храбрости этими гипотезами, но все было напрасно. Все было напрасно, потому что смерть, приближавшаяся к нему огромной темной тенью, окутала уже свою жертву. И влияние незаметной мрачной тени заставляло его чувствовать — хотя он не видел и ничего не слышал, — заставляло его чувствовать присутствие моей головы в комнате.
Подождав долго, терпеливо, и не дождавшись, чтобы он снова лег, я решился открыть немного фонарь, но открыть чуть-чуть. Я открыл его так тихонько, как вы себе и представить не можете, и навел тонкий, как паутина, луч на глаз коршуна.
Глаз был открыт, — совершенно открыт, — и я пришел в ярость, как только взглянул на него. Я видел совершенно ясно, — это мутно-голубой и покрытый пятном глаз, — глаз, от которого у меня застывал мозг в костях. Из всего лица старика я видел только глаз, потому что точно инстинктивно я направил луч именно на это проклятое место.
Не сказал ли я вам, что помешательство есть ничто иное, как утонченность чувств? Теперь же я вам скажу, что до слуха моего доходил глухой, подавленный, частый стук, похожий на стук часов, завернутых в вату. Этот звук я тоже узнал тотчас же: то было биение сердца старика, и оно увеличило мою ярость, как звук барабана увеличивает храбрость солдата.
Но я все еще удерживался… Я едва дышал. Я держал фонарь неподвижно и старался не сдвинуть луч с глаза. А между тем проклятый бой сердца становился все сильнее, все поспешнее и с каждой минутой все громче и громче. Ужас старика, вероятно, был страшно силен! Это биение, говорю я, с каждой минутой делались все сильнее и сильнее. Слушайте внимательно. Я сказал вам, что я нервен; я, действительно, нервен… А тут среди ночи, в страшной ночной тишине старого дома, такой странный звук… В меня вселился непреодолимый ужас. Еще несколько минут я оставался спокоен. Но биение становилось все сильнее и сильнее. Мне казалось, что мое сердце из меня выскочит. И меня охватил новый страх: ну, а если сосед услышит этот стук? Час старика наступил. С страшным криком я открыл фонарь и бросился в комнату. Старик вскрикнул только раз, только один раз. Я в один миг бросил его на пол и навалил на него всю постель. И я улыбнулся от довольства, видя, что дело мое подвигается. В продолжение нескольких минут сердце старика билось глухим звуком и это меня уже не беспокоило, потому что через стену его не могли услышать. Наконец, биение прекратилось. Старик умер. Я поднял постель и осмотрел тело. Да, оно было холодно и мертво. Я положил руку на сердце и продержал несколько минут. Никакого биения. Оно было мертво… Глаз старика уже не станет меня более мучить…
Если вы еще и теперь думаете, что я помешан, то я заставлю вас переменить мнение: — я опишу вам предосторожности, которые я принял, чтобы скрыть тело. Ночь проходила; я работал поспешно и молча. Я отрезал голову, потом руки, потом ноги.
Я поднял три половые доски и уложил все между настилкой, потом я положил доски на старое место так ловко, так хорошо, что никакой бы глаз, даже его глаз ничего бы не заметил. Мыть было больше нечего, — ни пятна, ни капли крови. О, я слишком хитер! Утро все уничтожило, ха-ха-ха!..
Было четыре часа, когда я кончил работу, — стояла темная, глухая ночь. В то время, как часы били четыре, кто-то постучался. Совершенно спокойно я пошел отворить, потому что теперь мне нечего было бояться. Вошли три человека; они объявили, что они полицейские. Ночью сосед слышал крик; крик возбудил его подозрение, он дал знать полиции, и вот пришли полицейские, чтобы произвести следствие.
Я улыбнулся — чего мне было бояться? Я приветливо принял чиновников. "Крикнул я, — заявил я им, — во сне. А старик, — прибавил я, — уехал в деревню". Я провел чиновников по всему дому, приглашая их осмотреть все хорошенько. Наконец, я привел их в его комнату. Я показал им его деньги, — все было цело. Увлеченный своей удачей, я принес стулья и просил полицейских отдохнуть; сам же я поставил свой стул на доски, прикрывавшие тело.
Полицейские были удовлетворены. Моя развязность успокоила их. Я был совершенно доволен. Они сели и начали разговор о повседневных предметах; я весело отвечал им. Но я почувствовал скоро, что бледнею, и стал желать, чтобы они ушли. Голова у меня болела, в ушах звенело, а полицейские все сидели и все разговаривали. Звон становился явственнее, не переставал, а усиливался; я болтал усиленно, желая избавиться от неприятного чувства, но не мог… Вскоре я открыл, что звук был не у меня в ушах.










![Зов Ктулху [сборник] - Говард Лавкрафт](/uploads/posts/books/423288/423288.jpg)