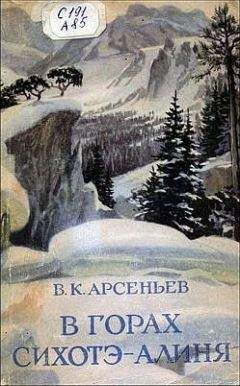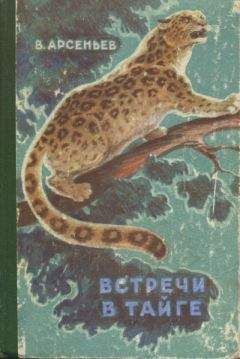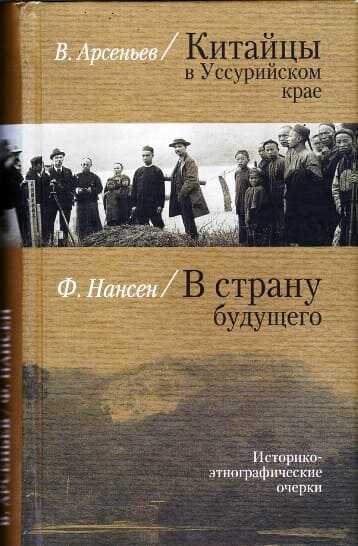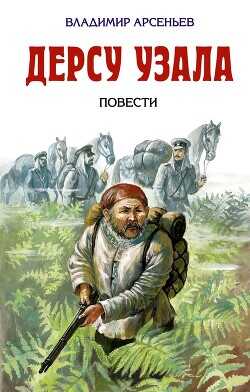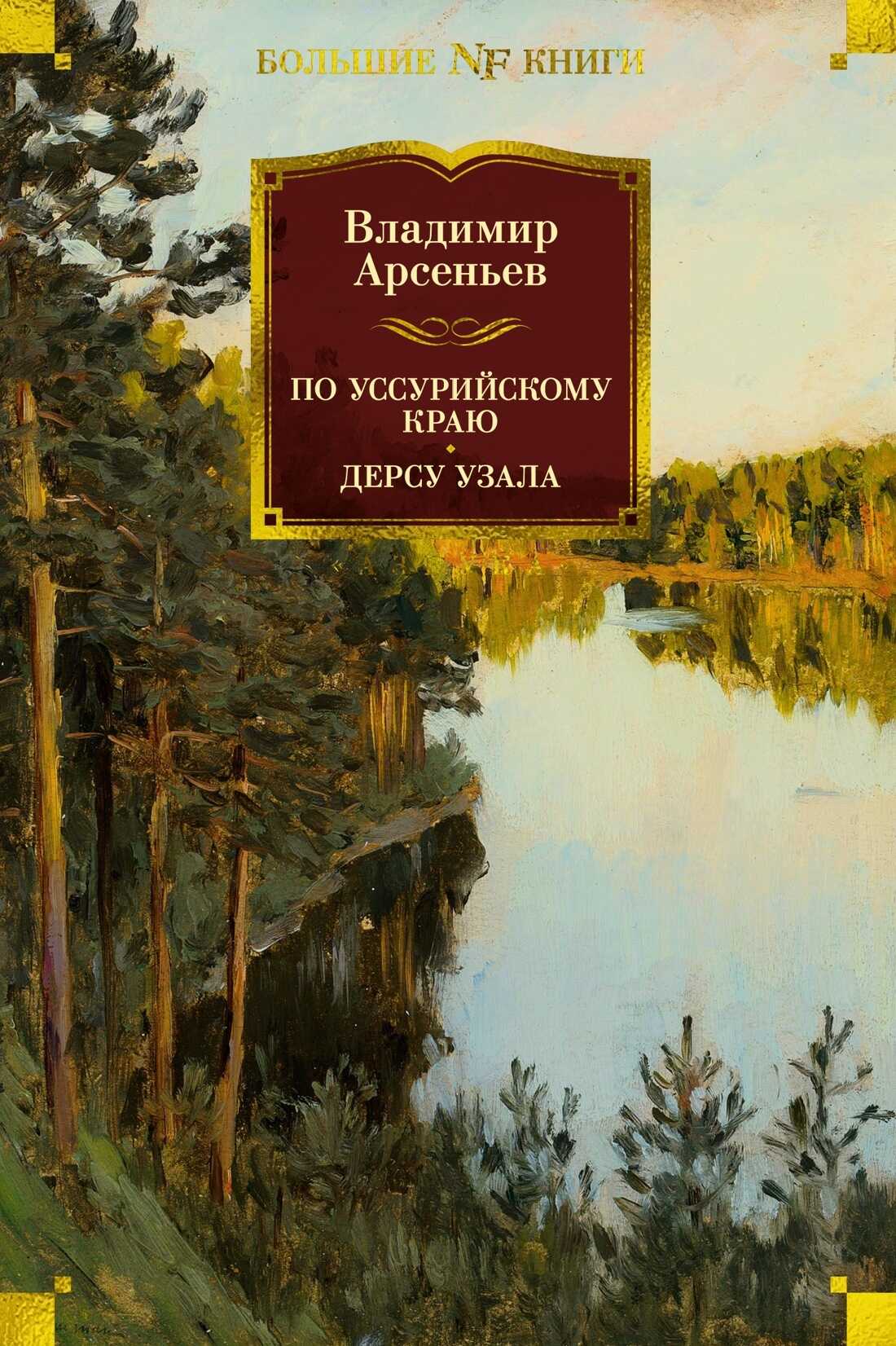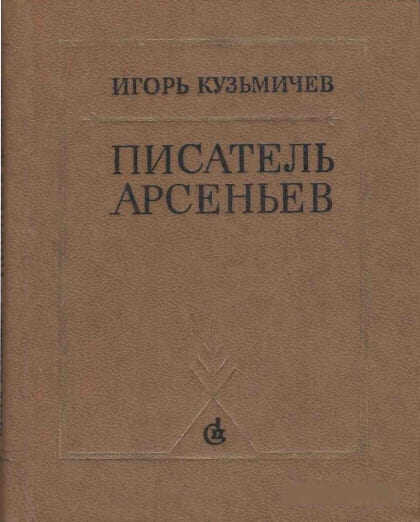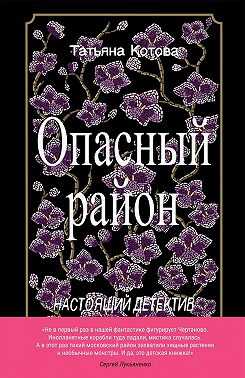Писатель Арсеньев. Личность и книги - Игорь Сергеевич Кузьмичев
Бокль не мог не поразить юного Арсеньева эрудицией, грандиозностью замысла, смелостью обобщений и гипотез.
В «Истории цивилизации» Арсеньев нашел богатейшие сведения о материальной культуре всех континентов, сведения о всемирной истории, об истории религий и этических течений. Бокль придавал большое значение влиянию на развитие цивилизации «физических законов» — климата, почвы, пищи и «видов природы»; этот «географический фактор» был Арсеньеву, видимо, особенно интересен. Оперируя разнороднейшим материалом, Бокль делал попытку «внести свет и порядок в хаотическую груду фактов», — в этом Арсеньев наверняка нуждался. И наконец, самобытная, по словам Чернышевского, мысль Бокля о том, что «ход истории определяется ходом научных исследований», что «сумма событий определяется суммой знаний», — эта мысль в ее общей форме не могла остаться не замеченной Арсеньевым.
Бокль веровал в человеческий разум, в его всесилие, но, полагаясь на прогресс умственный, отрицал прогресс нравственный. «Все великие нравственные системы, имевшие большое влияние на человечество, — писал он, — представляли в сущности одно и то же. В ряду правил, определяющих наш образ действий, самые просвещенные европейцы не знают «ни одного такого, которое не было бы также известно древним».
Над этой проблемой Арсеньев потом задумывался всю жизнь: каковы уроки цивилизации, насколько материальный прогресс влияет на мораль человека, что несет цивилизация народам диким и первобытным? Проблема эта — глобальная, она не имеет однозначного решения.
Через много лет, восхищаясь «особой таежной этикой» аборигенов Дальнего Востока, Арсеньев относительно умственного прогресса уже вряд ли полностью согласился бы с Боклем.
И кажется, вскоре после Бокля Арсеньев впервые прочел книгу Джона Леббока «Начало цивилизации и первобытное состояние человека». Леббок утверждал, что «человек в области нравственной сделал едва ли не более успехов, чем в какой бы то ни было отрасли материального или умственного прогресса». Это прямо противоречило Боклю.
Однако Леббок был склонен вовсе отказывать дикарям в нравственном чувстве. Он полагал, что им «вполне понятна идея права», но что они «лишены идеи справедливости».
Во всем, о чем он читал и узнавал, Арсеньеву предстояло разбираться самому и самому судить о достижениях европейской цивилизации, а это была далеко не простая задача.
Особенно если учесть, что и такой авторитет для него, как Пржевальский, осуждал цивилизацию и писал, что «прогресс не может возместить человечеству его нравственных утрат за последний век...»
Учась в юнкерском училище, Арсеньев не только много читал; он, как рассказывают его близкие, успевал посещать публичные лекции в Соляном городке, свободные от службы часы проводил в ботаническом и зоологическом садах, бывал в Пулковской обсерватории.
Когда Арсеньев заканчивал юнкерское училище, своекоштных юнкеров перевели в казеннокоштные. Им предстояло отслужить в армии полтора года за каждый год пребывания в училище. Арсеньев этого, вероятно, никак не ждал. Решение военного министра нарушило его прежние планы.
В январе 1896 года Арсеньев был «высочайшим приказом произведен в подпоручики с переводом в 14-й пехотный Олонецкий полк», который дислоцировался в польском городе Ломжа.
3
Итак, вместо вольной, ничем не стесненной жизни Арсеньева ждали как минимум три года действительной службы; вместо просторов Восточной Сибири — глухой провинциальный гарнизон в Польше; вместо походов и путешествий — опять казарма и строй. Такой поворот судьбы в другом человеке надолго, если не навсегда, убил бы стремление к знаниям и всякие восторженные мечты. Гарнизонный быт с его невежеством, дрязгами, сплетнями, пьянством и картами сгубил многих талантливых людей, не нашедших в себе сил противостоять его мелочным соблазнам и угнетающей скуке.
К тому же положение в Польше было тогда напряженным, и правительство опасалось открытых возмущений. Войска, квартировавшие в Польше, держали в ружье. Арсеньев, по словам С. И. Кашлачева, не столько занимался учебными маневрами на вольной природе, сколько службой, «мало чем отличавшейся от обыкновенной полицейской». Несение караулов у государственных учреждений, патрулирование по улицам и прочие охранительные действия не могли быть по сердцу молодому войсковому офицеру, желавшему совсем иной деятельности. Недаром Арсеньев вспоминал потом свое пребывание в Ломже, как ссылку за какое-то преступление.
Нужно было искать выход из создавшейся ситуации.
И тут Арсеньев проявил удивительную выдержку и последовательность.
Из воспоминаний Анны Константиновны Арсеньевой, которую он встретил еще девочкой и на которой женился в ноябре 1897 года, мы узнаем, что в Ломже Арсеньев стал усиленно готовиться к поступлению в Академию Генерального штаба. «Володя, что мне нравилось, — рассказывала Анна Константиновна, — имел честолюбие и чувствовал в себе недюжинную силу. Он хотел выдвинуться, а для этого академия была важным рычагом. Учился он каждую минуту — днем, вечером и утром. Если я задерживалась с обедом, он доставал записную книжку или книгу с закладкой и что-то читал».
Теперь книги не только утоляли его любознательность, не только умножали багаж его знаний, — они сулили ему спасение.
Примерно в эту же пору где-то в похожем гарнизоне служил герой купринского «Поединка» подпоручик Ромашов. Он так же окончил военное училище, получил офицерские погоны, устроил себе квартиру по собственному вкусу, почувствовал себя вполне самостоятельным человеком. И «все это, — пишет Куприн, — наполнило самолюбивым восторгом душу двадцатилетнего мальчика, вчера только сидевшего на ученической скамейке и ходившего к чаю и завтраку в строю, вместе с товарищами». Он лелеял далеко идущие планы: «Какая строгая программа жизни намечалась! В первые два года — основательное знакомство с классической литературой, систематическое изучение французского и немецкого языков, занятия музыкой. В последний год — подготовка к академии. Необходимо было следить за общественной жизнью, за литературой и наукой, и для этого Ромашов подписался на газету и на ежемесячный популярный журнал. Для самообразования были приобретены: «Психология» Вундта, «Физиология» Льюиса, «Самодеятельность» Смайльса...»
Купринский герой, испытав на себе все тяготы и унижения армейской рутины, преисполнился иллюзий насчет академии и в мечтах «поразительно живо увидел себя ученым офицером Генерального штаба, подающим громадные надежды». Однако все случается иначе. Не проходит и года, а запыленные книги все лежат на этажерке, «газеты с неразорванными бандеролями валяются под письменным столом, журнал больше не высылают за невзнос очередной полугодовой платы, а сам подпоручик Ромашов пьет много водки в собрании, имеет длинную, грязную и скучную связь с