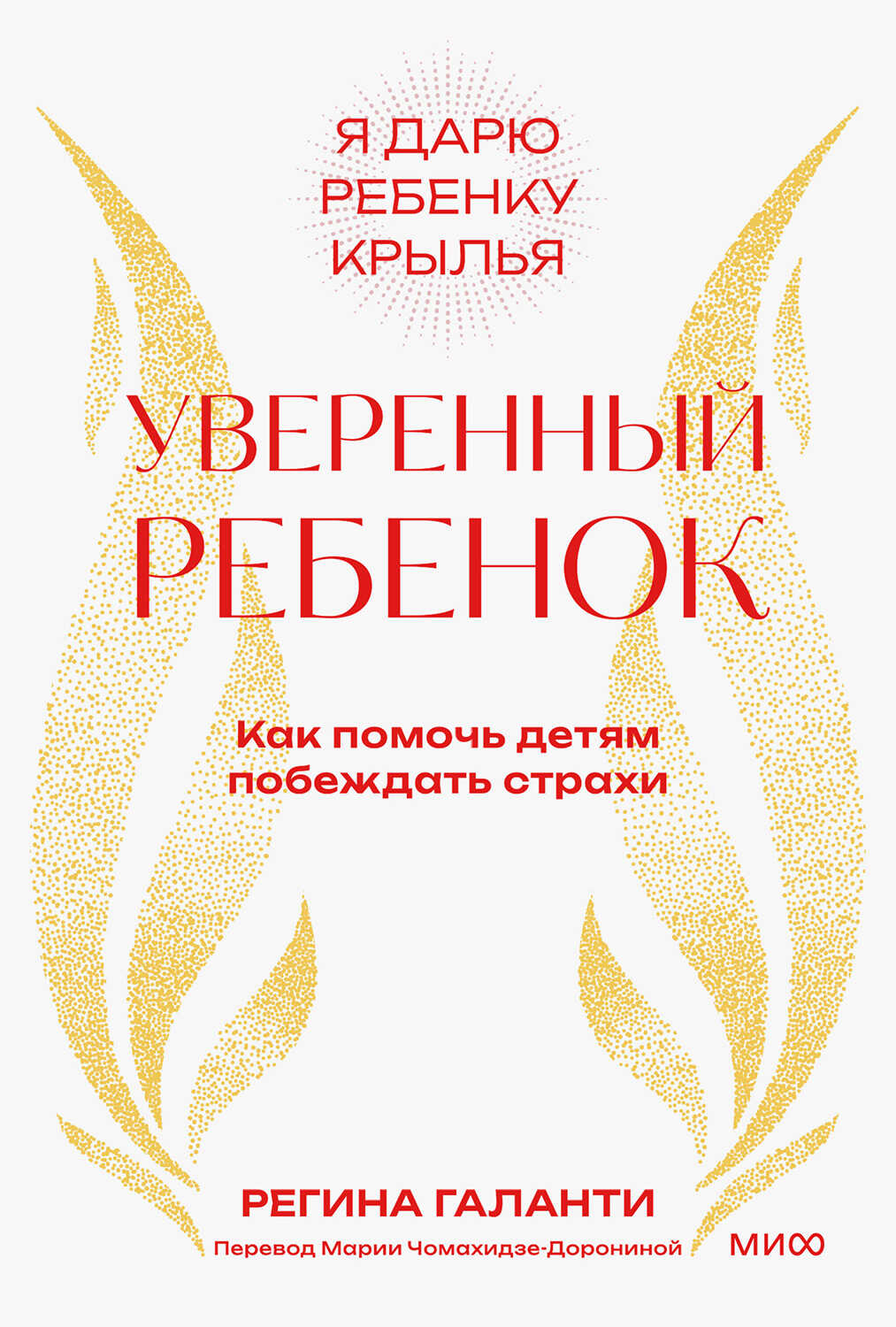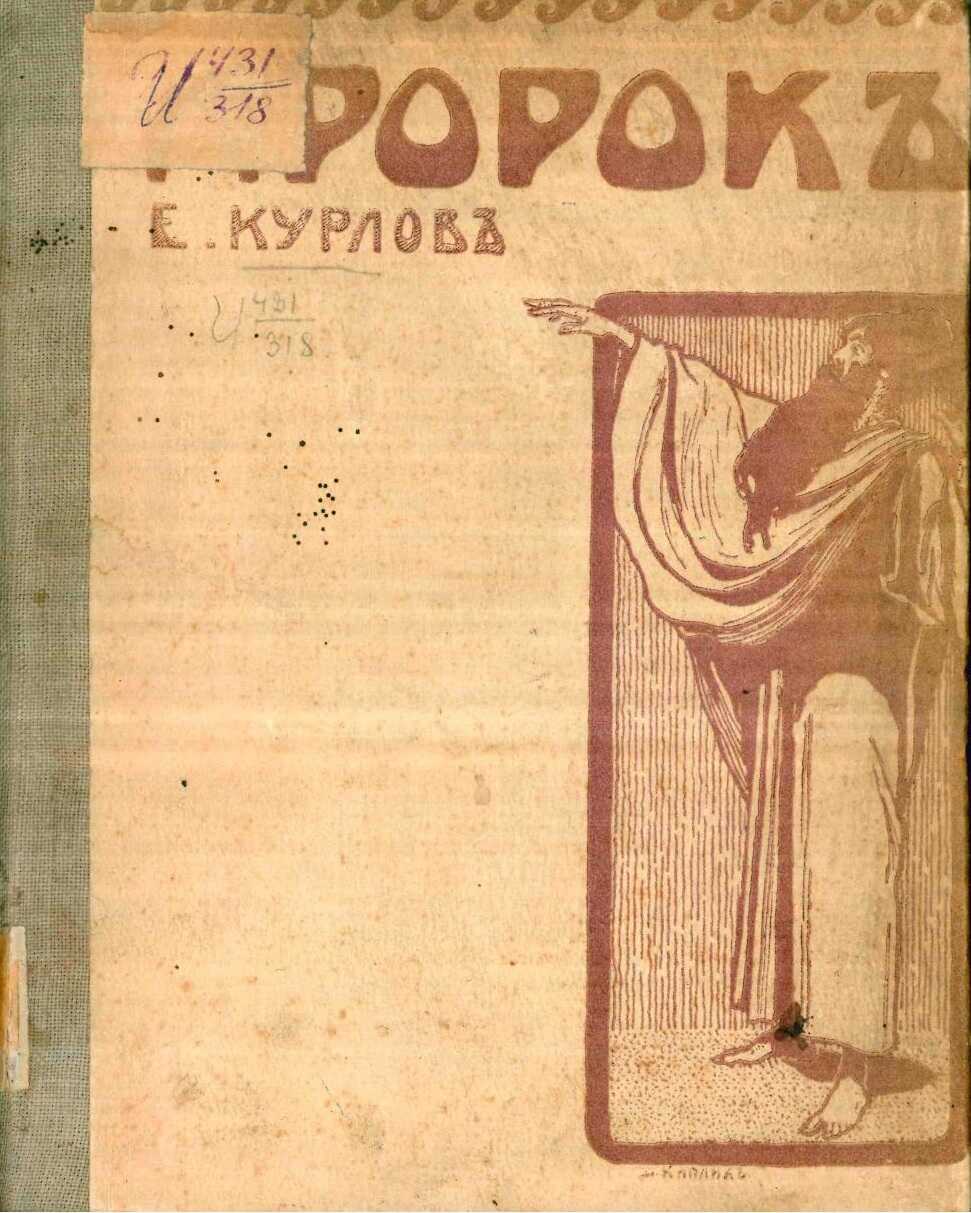Следующий - Борис Сергеевич Пейгин
– Может, не имело смысла мне сюда приходить? Я думаю, вашим домашним неудобно. Уже поздно, кроме того. Я могу приехать в окружную администрацию, если хотите…
– Я не очень доверяю своему кабинету. В аппарате губернатора почти все сотрудники начали работать ещё при советской власти, чего вы от них хотите? Всё равно люстрации мы не дождёмся… В переходное время лояльность – ключевая вещь. Поэтому я требую, чтобы вы, Николай Маркович, действовали в нашем русле. Вы – мой человек на съезде. Николай Маркович, у меня понятная позиция. IX съезд уже не про демократов. Вас избирали в народные депутаты…
– Нет, поймите меня правильно. Съезд народных депутатов…
– Да я знаю, что вы скажете, что это высший орган власти. Давайте без ребячества, это серьёзное дело. Вы должны занимать принципиальную позицию по интересующим нас вопросам, они ничего не должны получить.
– Вы хотите, чтобы я сдал мандат?
– Сдадите, когда нужно. Когда всё это безобразие с совками кончится, все региональные администрации будут сменены.
– Маслов бы мандат не сдал.
– Маслов, предшественник ваш, царствие ему небесное, был сталинист и урод, старое аппаратное говно. Я вам со своей стороны помогал баллотироваться на его место и победить. Время Верховного совета подходит к концу. Демократические фракции – и это принципиально – должны…
И мать с отцом на кухне говорили о принципах.
– То есть ты даже сына в школу нормально собрать не мог? Первое сентября! Это хорошая школа, а не подзаборная фазанка! То есть ты не знал, что положено прийти в форме или хотя бы в костюме?
– Мне никто ничего не говорил. Я вообще не думал, что я его поведу. Твой отец мог бы его отвезти, у него служебная машина. Или ты…
– То есть заместитель губернатора должен был посылать служебную машину, чтобы внука в школу везти? Ты совсем с ума сошёл? Или мне, по-твоему, нечем в университете заняться первого сентября?
– Так и мне есть чем…
– Слушай, ты же принципиально ничего до конца довести не можешь. Я даже не удивляюсь, что твою статью зарубили…
– Лена, ну при чём здесь моя статья…
– А при том же. Как ты думаешь, почему отец двигает в депутаты этого доцента с юрфака, а не своего зятя?..
– А если зятю и не надо?
Они шипели, негромко, но пронзительно, и Фил сквозь стену слышал их. Да, не было костюма, и не похож я на других был. Говорят – белая ворона. Но серые вороны или чёрные? И так ли плохо – ворона? Ворона – умная птица, басня ошибается. У неё умные глаза, как у тебя. Если бы ворона умела читать, читала бы книги, как ты. Я был серым, как ворона, а ты белая с чёрным. Или темно-синим. Ты чёрно-белая, а я серо-чёрный. Так и есть.
Тому, кого дедушка называл Николаем Марковичем, стало неудобно, и он ушёл. В прихожей мама и отец, но дедушка не вышел, но Фил вышел. Николай Маркович что-то говорил матери, и она ему больше. Он кивал. Он зашнуровывал ботинки и, присев на корточки, серым плащом подметая пол, протянул Филу руку:
– Так это вы – Филипп?
– Я. – И я протянул руку ему, потому что он не улыбался.
Меня никто не называл на «вы». Я пожал руку ему, и он улыбнулся:
– Очень рад знакомству. Надеюсь, ещё увидимся.
Учительница говорила:
– Не торопитесь с оценками, это только циферки. Они вам ещё надоедят.
Много позже я узнаю, что это был какой-то эксперимент за рамками должного, и потому его прекратили. В первом классе им не ставили оценок. Фил всегда знал, раньше, чем научился думать: в школе оценки ставят. Четвёрки, пятёрки, двойки. Он рисовал их – на длинных линованных листах, жёлто-белых, заполняли которые ящики секретера гостиной. Рисовал цифры, которые когда-то будут оценками. Все, от единицы до пятёрки, с крылышками и глазами, но они должны были жить. Как изогнутые змеи, причудливые и переливчатые, они улыбались и носили на своих телах часы. Если рисунок был достаточно большим, вмещал и цифры на циферблатах этих часов.
Но разница между пятёркой и тройкой, скажем, была невелика – я рисовал их одинаково обеих. Потом понял.
Учительница говорила:
– Не торопитесь с оценками, это только циферки. Они вам ещё надоедят.
Все очень ждали цифр, и я, но она не ставила. Ходила вдоль рядов и смотрела в тетради. Внизу писала: «Умница!», или «Хорошо!», или «Старайся!». Прошло дней двадцать, и знал твёрдо я: «хорошо» – моё. Ещё проверяли «технику чтения». И тогда Фил понял, что он и что – она. У неё сто десять слов. У меня восемьдесят четыре. Она – умница. Она всегда была умницей. Она тянула руку, она всегда тянула руку. Фил тоже тянул, но спрашивали реже. Он приписывал это дистанции – она сидела на первой парте, он – на третьей. До первой ближе.
Но мама смотрела тетради и говорила:
– Ну, старайся, что ж.
Чем же плохо?
– Мама, но ведь «хорошо».
– Хорошо – это не отлично. Тебе это вполне по силам, если будешь стараться. У вас есть те, кому ставят «отлично»?
– Есть. – И я возглашаю имя твоё. Свет мигает. Я возглашаю имя твоё, первый раз.
– Ну вот, значит, всё возможно. Старайся.
– Она на первой парте сидит, её спрашивают всегда. Я тоже руку тяну, честное слово.
– А ты не завидуй. Учитель же смотрит на всех сразу…
И я знал это – не завидуй. Мама не открыла истины мне. Но я смотрел на тебя каждый день, двадцать дней подряд. Фил был не старательный, не старательный, но двадцать дней было достаточно и ему, чтобы понять место своё. Их было двадцать человек, двадцать дней, моё место – «хорошо». Так оно называлось. Но мама не соглашалась. Нужно было стараться. И не завидовать при этом.
Ну, настало время и шанс настал – вот тогда, на день двадцать второй. Она сидела, а соседкой её была Оля Лодыгина, что с огромным красным ранцем ходила и напротив жила. А к ней подсадили именно его. А из восемнадцати человек выбрали его, так получилось, что из восемнадцати человек выбрали именно его.
И – о, как помню я! – как же я тянул руку. Она прорастала из тела и стремилась к белому потолку, к белым шарам люстр, к квадратному окну! Но учительница говорила:
– Филипп, будь сдержанней. Я вижу, что ты очень хочешь ответить. Но ответит






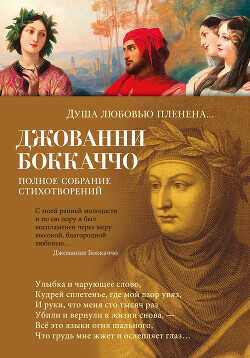


![Кармилла [сборник] - Джозеф Шеридан Ле Фаню](/uploads/posts/books/420583/420583.jpg)