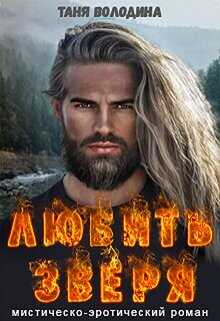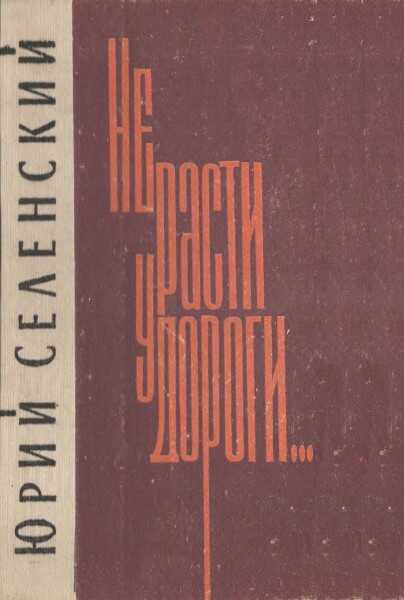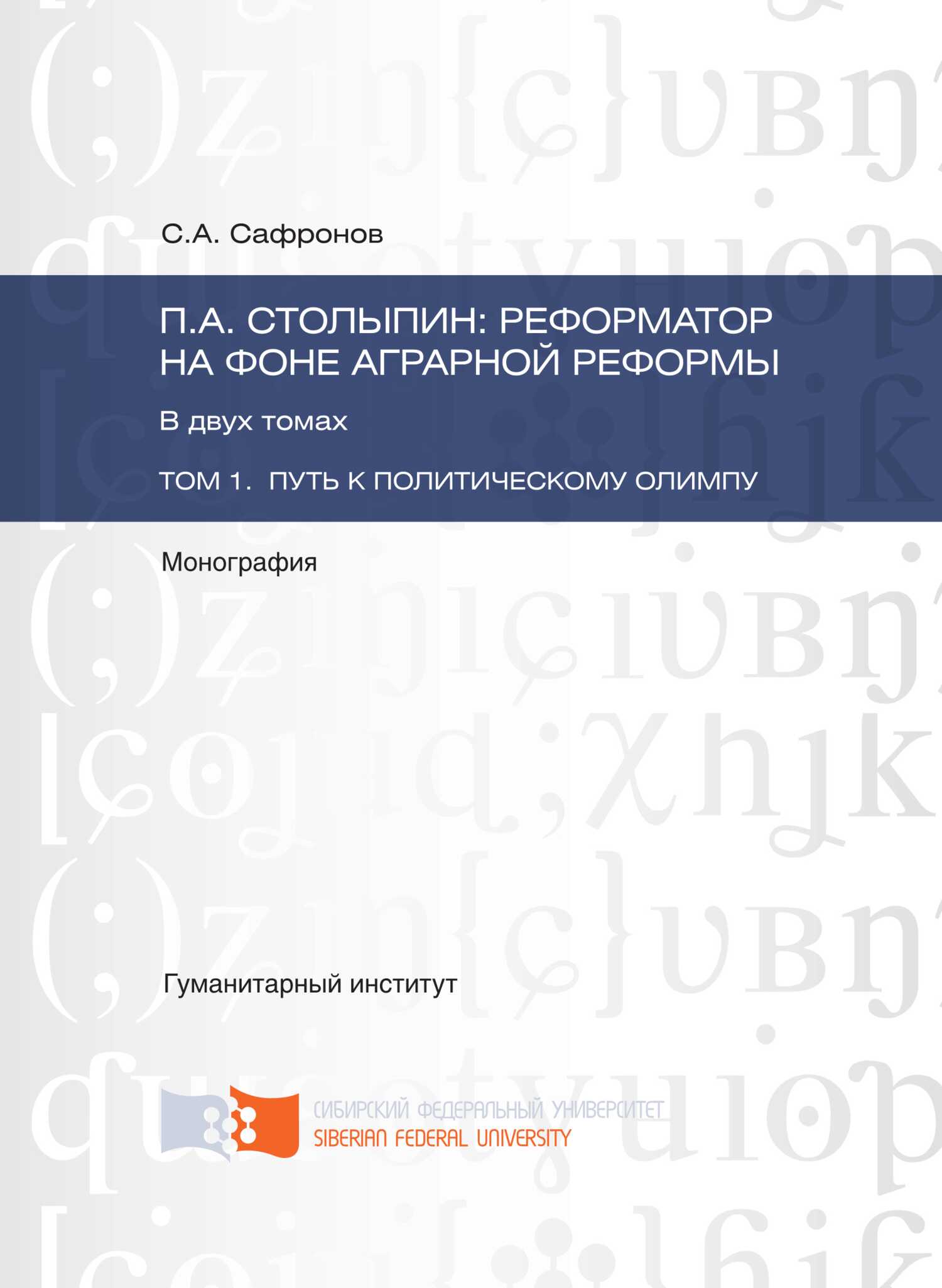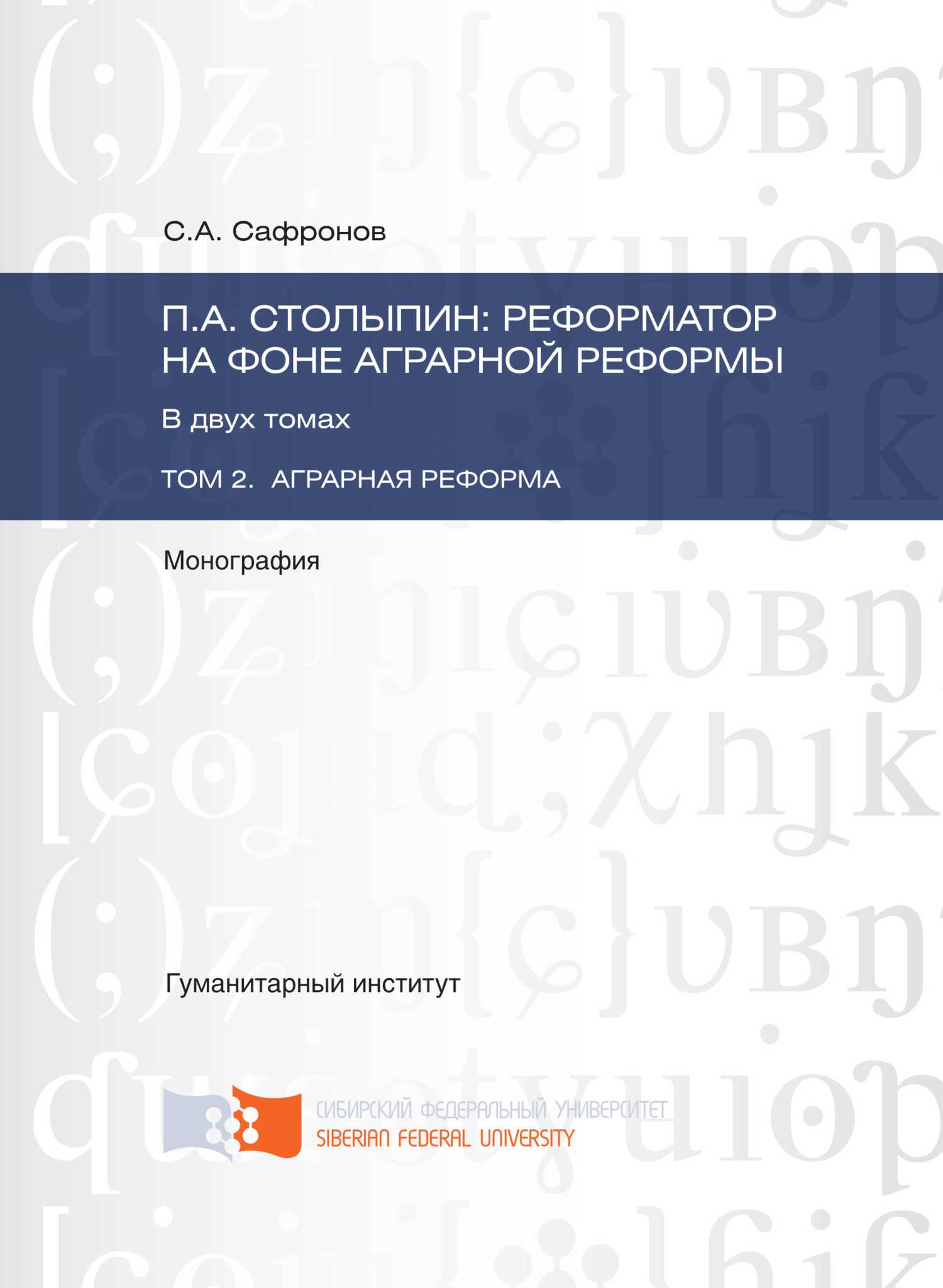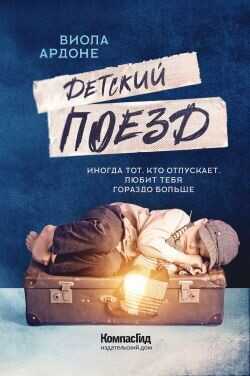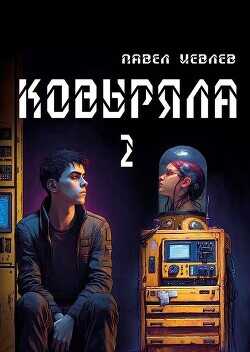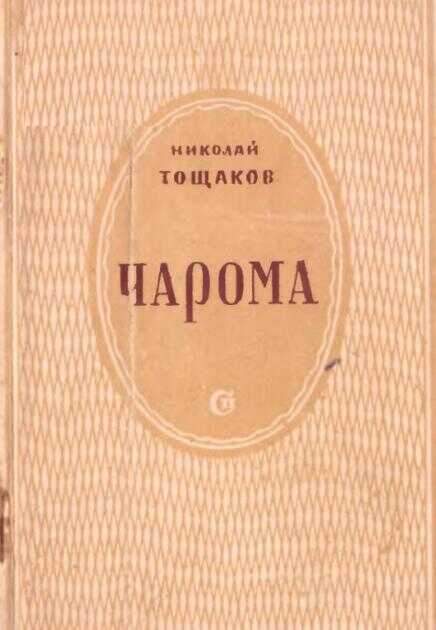Следующий - Борис Сергеевич Пейгин
…время лопнуло, как лопается надутый полиэтиленовый пакет, – стоял июнь, и зелень блестела чуть влажной свежестью, хотя и не было никаких дождей. Я ещё вернулся туда: иранский уголовный закон, если верить копеечному журналу, в котором педофил кастрировал Ромео, сохраняет распятому на кресте жизнь, если тот продержится три дня. Фил висел на заборе и считал не в днях, но это было гораздо дольше – когда я умер и ты умерла, и мы размерлись, как разминулись, – и миры, сошедшиеся в одной точке, разошлись по своим орбитам – тогда-то я снова попал туда. От цветочного магазина на углу Зоологической до дома – шёл дворами и оказался там. Там, в музыкалке, тебя не могло быть, потому что был вовсе не май, а совсем даже июнь, и там были только листья. Листья расчертились прожилками, изумрудно-зеленым, и я расстегнул ворот рубахи, и моё белое тело выдохнуло, выпало впалой грудью на душный воздух. Там, на листе, снизу, висело что-то, похожее на пожухлый лист, истлевше-зелёное, в чёрных пестринах, и я смотрел – повернув голову, – да мало ли всякой мерзости видел, если присмотреться. Это растреснулось, лопнуло, и выпала капля, другая, тягучая, как патока, – и я смотрел. Нет, это не лист – куколка, и чёрное, похожее на червя. Чёрные с белым, мятые, мокрые крылья, мятые, мокрые, как была рубаха на мне. Секундная стрелка навостряла круги и утягивала за собой остальные две – быстрее и быстрее. На бабочку – не дышать, когда желтая кровь по невидимым глазу сосудам наполнит крылья, расправит, как парус, как четыре паруса, и ими можно будет взмахнуть. Её съедят птицы, её растопчут люди, её прибьёт к земле ветер, с первым взмахом, как все шесть ног оторвутся от мертвого пупария – я знаю, она долетит, у неё большое, сильное сердце. Так обычно, будто так и надо, – видела, видела ты – чёрное, похожее на червя, что дышать нельзя – жёлтая кровь брызнет на листья, и не будет. Спрячься под листьями, проходи листьями, проползай листьями, виси под листьями, похожее на лист, и настанет день, когда ты полетишь. Чёрное, похожее на червя, – не дышать, не двигать, так хрупко, что хрупче твоих волос, – расправь, расправь крылья, что паруса; ветер убьёт тебя, человек убьёт тебя, время убьёт тебя, но у тебя самое сильное сердце, и ты долетишь.
Но и в том мае, и не в том июня, до смерти или после, до тебя или без тебя – Фил всегда возвращался домой.
А дома надо было делать уроки или мыть посуду. Мыть посуду! Родители покупали то самое средство, которое, если верить рекламе, на веки вечные поссорило две испанские деревни. Оно не очень-то помогало от въевшегося жира, но молить Бога о том, чтобы жир отмылся, – это было как-то мелковато. Это было много раз, и Фил много чего там видел – тарелки, ложки, сковороды, даже половник, а однажды видел, как сам Николай V сподобился помочь ему и вафельным полотенцем с каким-то уютным скрипом проводил по белым тарелкам.
– В моё время за посуду такой работы могли бы дать целое состояние. Я слышал от заслуживающего доверия человека, что некий римский патриций, увидев такую посуду у торговца восточными товарами в Венеции, предложил за неё бочонок бальзамического уксуса, и тот не продал её. Но этот торговец был Нечистый, и он открылся ему – и тот предложил в заклад душу, так эта посуда была хороша.
– И вы поверили ему, ваше святейшество?
– Нет, конечно. В моём детстве в Саранце рассказывали сказки и поинтереснее. В сущности, это всё лишь о том, как зыбко человеческое сердце и как легко нарушить гармонию в нём.
– При всём уважении, ваше святейшество, – Фил видел, как тот поворачивает голову и захлопывает посудный шкаф своим огромным носом, – при всём уважении, я бы не продал душу за набор копеечных тарелок.
– А продали бы за что-то другое?
Я закрыл глаза – за что продал бы?
– За другое – да. – И в этом «да» было больше стали, чем выплавляют Великобритания и Люксембург за год, вместе взятые.
– Бог есть любовь. Но не грубая, дрянная похоть, достойная только уличного кобеля, а любовь совсем иного рода.
– Но что я могу поделать, если мне не выдали другой? – И, кажется, голос мой дрожал, только слёз в глазах не было.
– Высшая власть, данная человеку, – это власть над собой самим. Дорога, ведущая к Богу, пряма, но очень узка. И требуется много сил, чтобы заставить себя пойти по ней. И я знаю, что вы не во всём вольны над собою. Вот, помогите-ка мне, – он занёс над Филовой головою огромное блюдо, – а впрочем, ни в коем случае не советуя вам впадать в гордыню, я, однако же, советую уважать себя. И оскорбления, и поношения, которые наносят другие, лишь отдаляют вас от этой дороги.
– А как же – подставить другую щёку?
– Богочеловек Христос был и идеальным