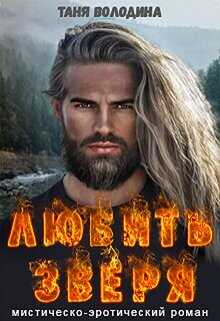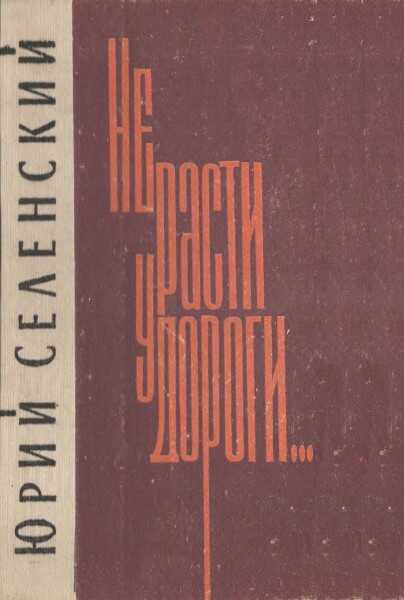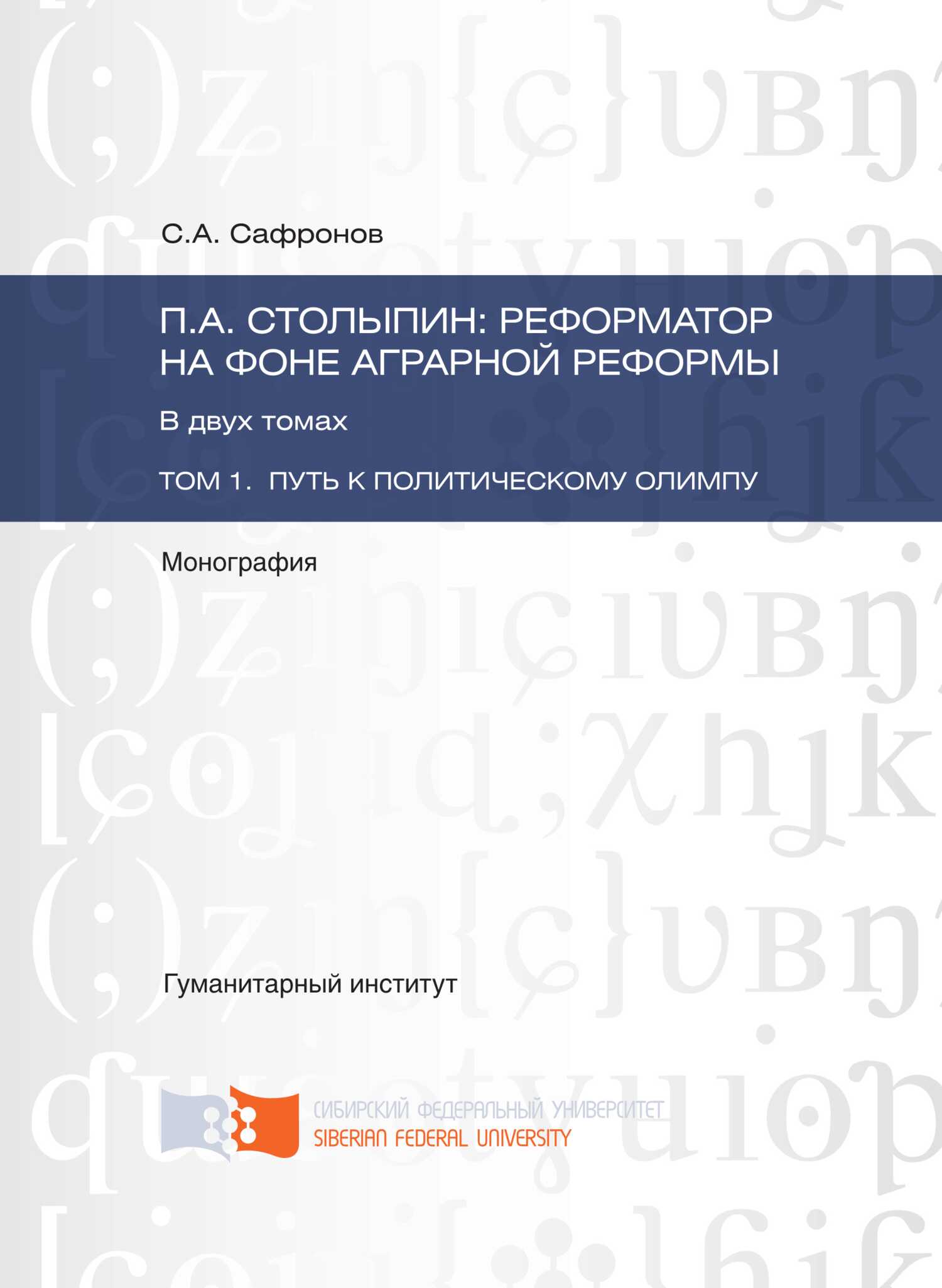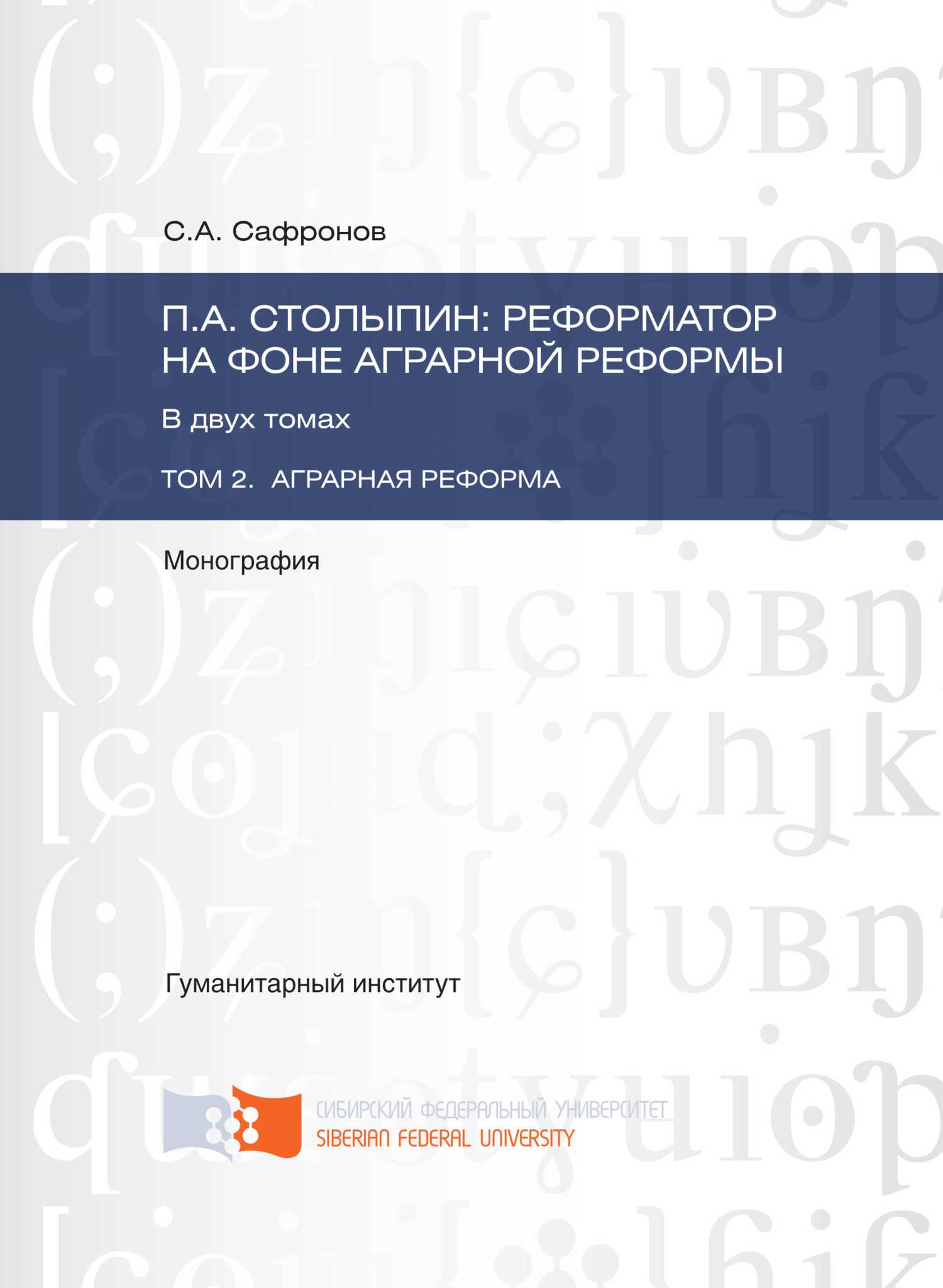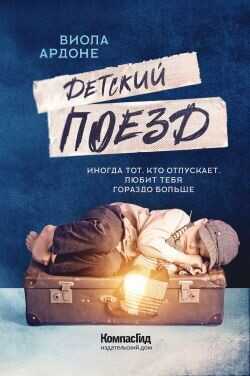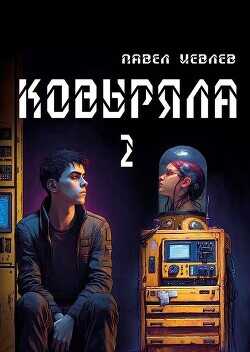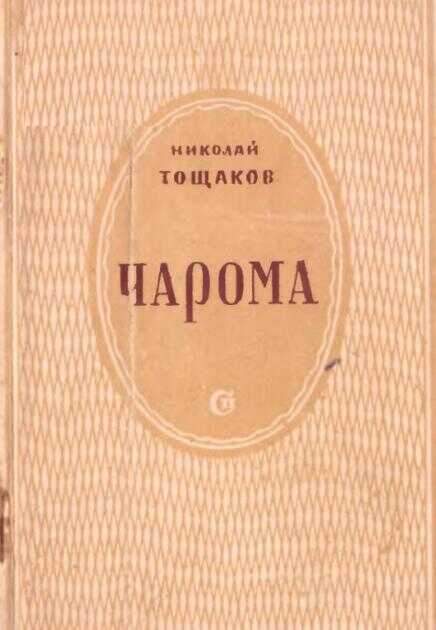Следующий - Борис Сергеевич Пейгин
Дома были гости. Вернее, гость был только один, если не считать дедушки – за накрытым в гостиной столом восседал и негромко, неэмоционально говорил груболицый человек с залысиной, может, чуть старше отца. Я видел их из прихожей, но они меня нет; он говорил, они слушали, я думал о своём. Как всё-таки Эггман прав. Или неправ?
Стоп. Ведь есть ещё то, что они называют творчеством, – та же музыка, например. Ну, положим, с музыкой понятно, никакое это не творчество – та же последовательность. Но вот сочинения? Она пишет их правильно, а Фил – нет. Нельзя ведь писать совсем одинаково, это называется списывание. Тут нужно проявлять умение мыслить и писать… вот только тогда (какой же я всё-таки тугодум!) мне стало понятно всё лицемерие, коварство и двуличие, заключённое в этом постулате. Однако! Они говорят – свобода творчества, свобода творчества!.. Нельзя писать о чём хочешь – надо должным образом восторженно высказываться на предопределенную тему. Ключевое тут – должным образом. Нет никакой свободы восторга. Он тоже должен соответствовать ожиданию, но при этом не повторять чужое слово в слово. Какое, однако, иезуитство – изобразить, что ты свободен, оставаясь при этом в цепях и обманывая ожидания заранее всем известным образом, но при том не изобличая своего обмана. Полная свобода лизоблюдства. Вернее, нет, далеко не полная. Подумав так, Фил был даже в чем-то доволен – дела его шли хуже некуда, но, по крайней мере, он понял, в чём именно виноват, и вся эта сложная мыслительная конструкция под ним не рухнула.
– Ты что там на полу сидишь? – Голос мамин откуда-то ниоткуда, и не из комнаты, и не из коридора, бог знает, где она, она, кажется, повсюду тут. – Раздевайся, переодевайся, садись за стол.
– Да, иду. – И бесполезно прятаться, и говорить что-то иное, Фил это знал твёрдо. Да и как спрячешься, коли мама здесь одновременно в трех местах, и на полу, и в стенах, и самые пол и стены – это тоже она.
Гость этот был не то Ларин, не то Лорин, но скорее Лорин – в его фамилии, да и в нём вообще было что-то русское по форме, но совсем неудобоваримое по смыслу – так что такая фамилия ему бы шла. Это был совершенно точно важный гость – мало того, что дедушка приехал, мало даже того, что он молчал, слушая его. На стол поставили веймарский сервиз из серванта, положили мельхиоровые приборы. Виданное ли дело! За этим столом мне была уготована роль, подобающая наследнику благородного семейства, которому до посвящения в рыцари, выделения апанажа и вот этого всего прочего ещё далеко, но уже не настолько далеко, чтобы можно было сомневаться, доживёт ли. Роль эта скучна, хотя и не вовсе бессмысленна – сидеть с видом важным, но не чересчур серьёзным, дабы кто не подумал, что ты пыжишься выглядеть взрослым, и слушать – но не слишком внимательно, дабы кто не подумал, что ты пыжишься выглядеть взрослым.
Лорин, урвавший правдами, но скорее неправдами позицию в Бристольском университете, приехал, стало быть, издалека, но разговор за столом был на очень русскую тему – о судьбах мира.
– …и насчет китайцев – чепуха всё это, что пишут, не верьте.
– Почему?
– Китайская история циклична, вы же это знаете. Рост сменяется стагнацией, потом упадок и социальный коллапс. А всё знаете почему? – И когда молчание было ему ответом, Лорину было благоугодно продолжить: – Даже не потому, что китайцы так и не создали формальной логики и вся их наука осталась прикладной. Нет! Конфуцианская мораль предписывает такой контроль государства над человеком, которого быть не может. В нормальных странах этим занимается не государство, а общество, понимаете? Ну вот, скажем, в Англии ты не можешь просто так открыть счет в банке – ты должен представить некий комплаенс, utility bills, ну, счета за коммунальные, вот это всё. Ты не снимешь жильё, если у тебя нет этого комплаенс. И не купишь. Тебе не то что откажут, тебя просто не поймут, у тебя не может его не быть. То есть государство не вмешивается в твою жизнь, общество само проверяет тебя, можно тебе доверять или нет.
– Печально звучит, – только и сказал печально отец, и мать, и дедушка молча, но резко повернулись к нему, и он умолк.
– Ну такова жизнь. И России тоже к этому надо стремиться, если вы хотите жить как порядочные люди…
Потом была ещё перемена блюд: мама принесла с кухни запеченный в фольге огромный кусок говяжьей вырезки; я мог бы угадать его, не видя даже, по духу специй, чеснока и горячего мяса.
– …Ельцин ваш, конечно, алкаш, но это же не на пустом месте у вас прямо на улицах убивают. Это всё родом из СССР: эти микрорайоны, эти ужасные коммиблоки – какие люди могут там вырасти? Там же не строили ни приличных школ, ничего. Единственная путёвка в жизнь оттуда – это только спорт. Ну вот и вырастили целое поколение бандитов. Что они ещё умеют делать? Только драться…
Если ковырять вилкой в мясе и смотреть при этом в окно – можно наводить резкость собственных глаз в зависимости от силы нажатия на вилку. Сжимаешь сильнее – видишь лучше. Вон, в доме напротив, через весь двор – это тридцатый по Трайгородской – вышел на балкон мужик в семейных трусах. А этажом выше какая-то тётка в окне поливает цветы.
– …а я не могу ему объяснить, где это – Казань. Он спрашивает: это что, на Среднем Западе? Я говорю – это Татарстан. Он думает, это в Сибири. Говорит, что в ГУЛАГ он не хочет, он про это читал…
– Может, тогда не стоило и стараться?
– Так это не он глупый, это места такого нет,