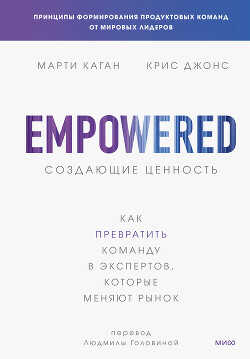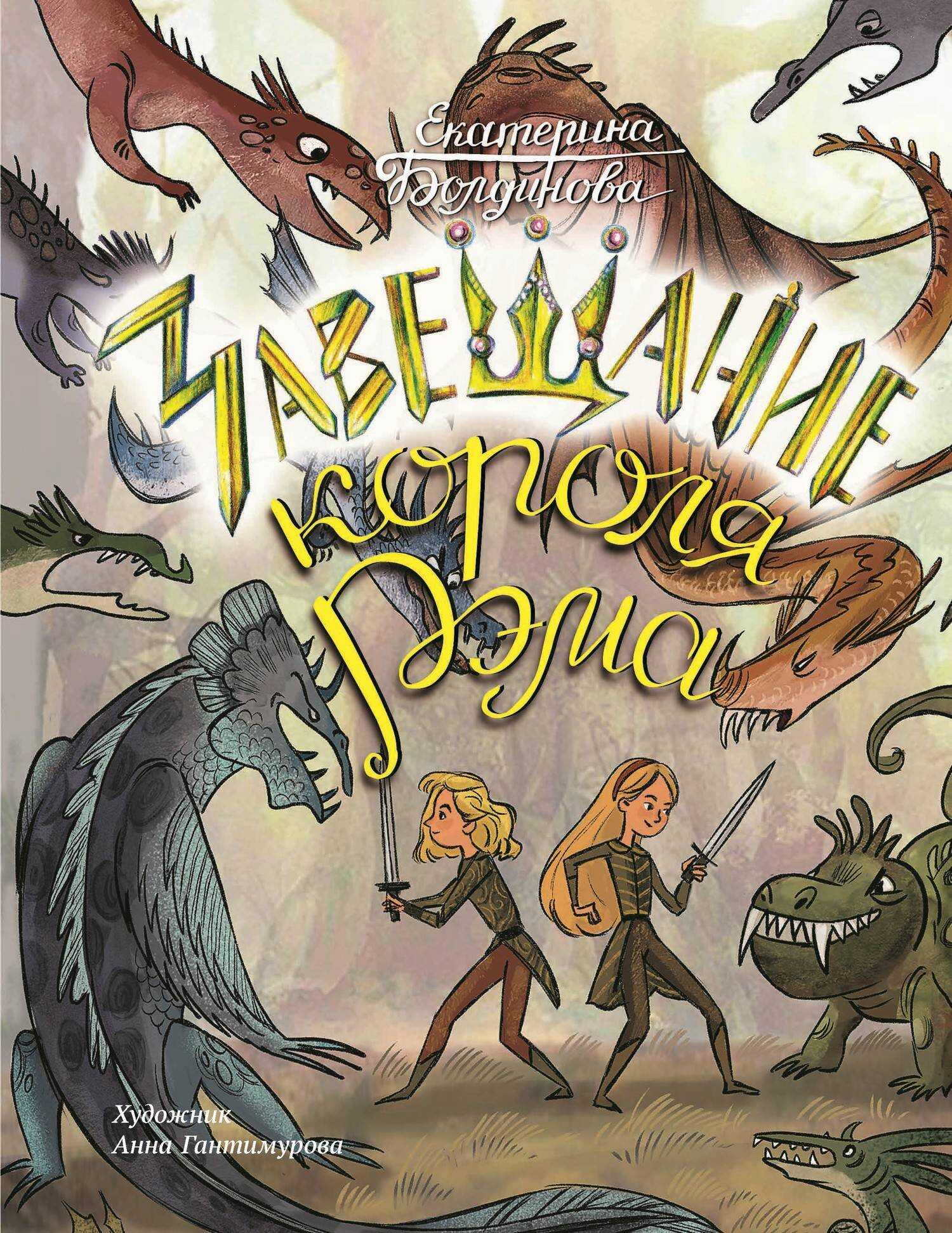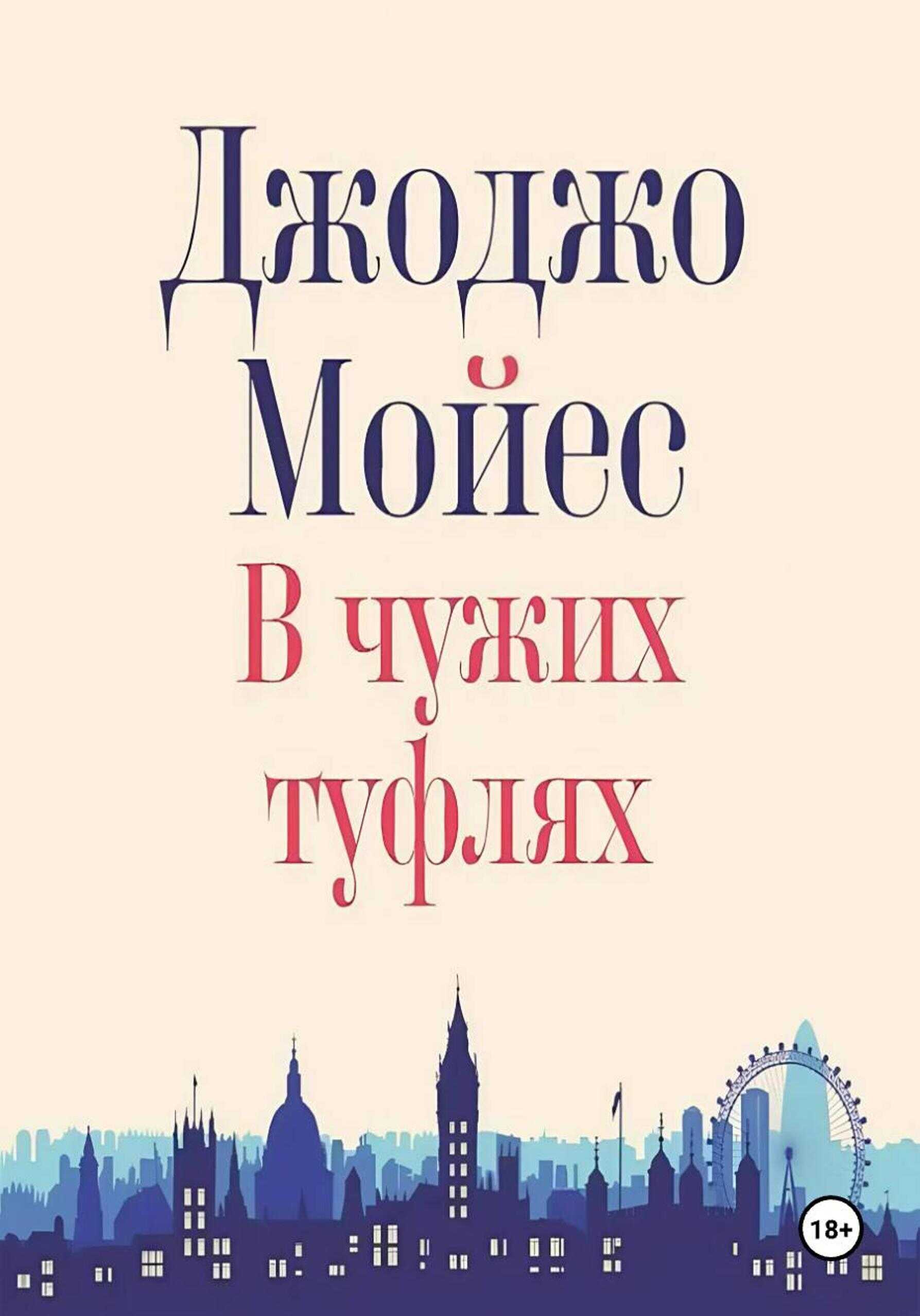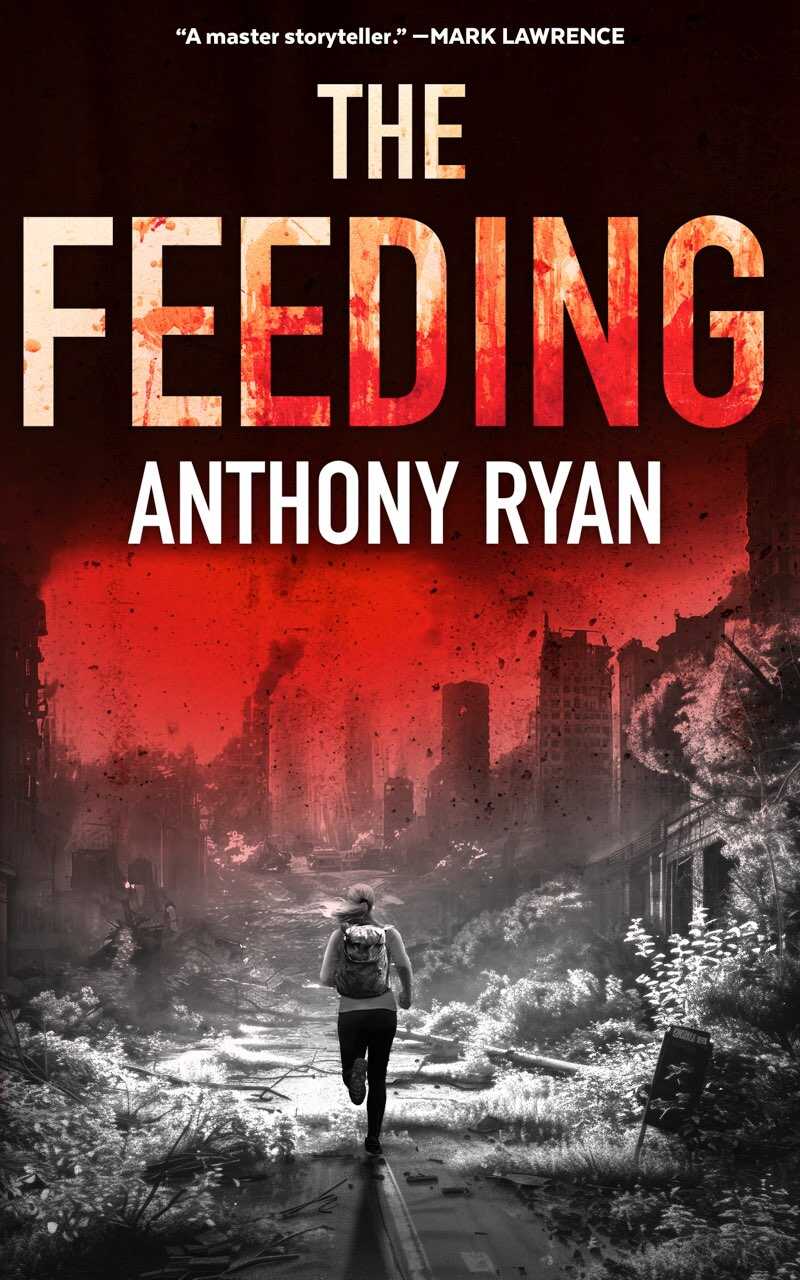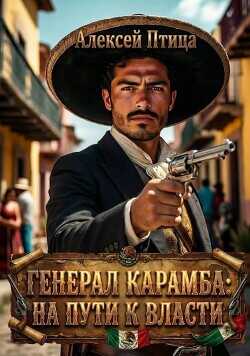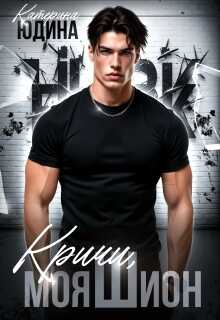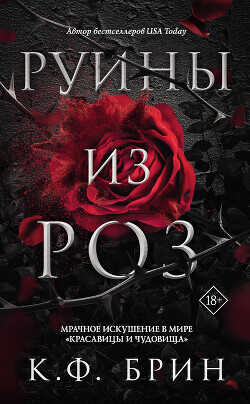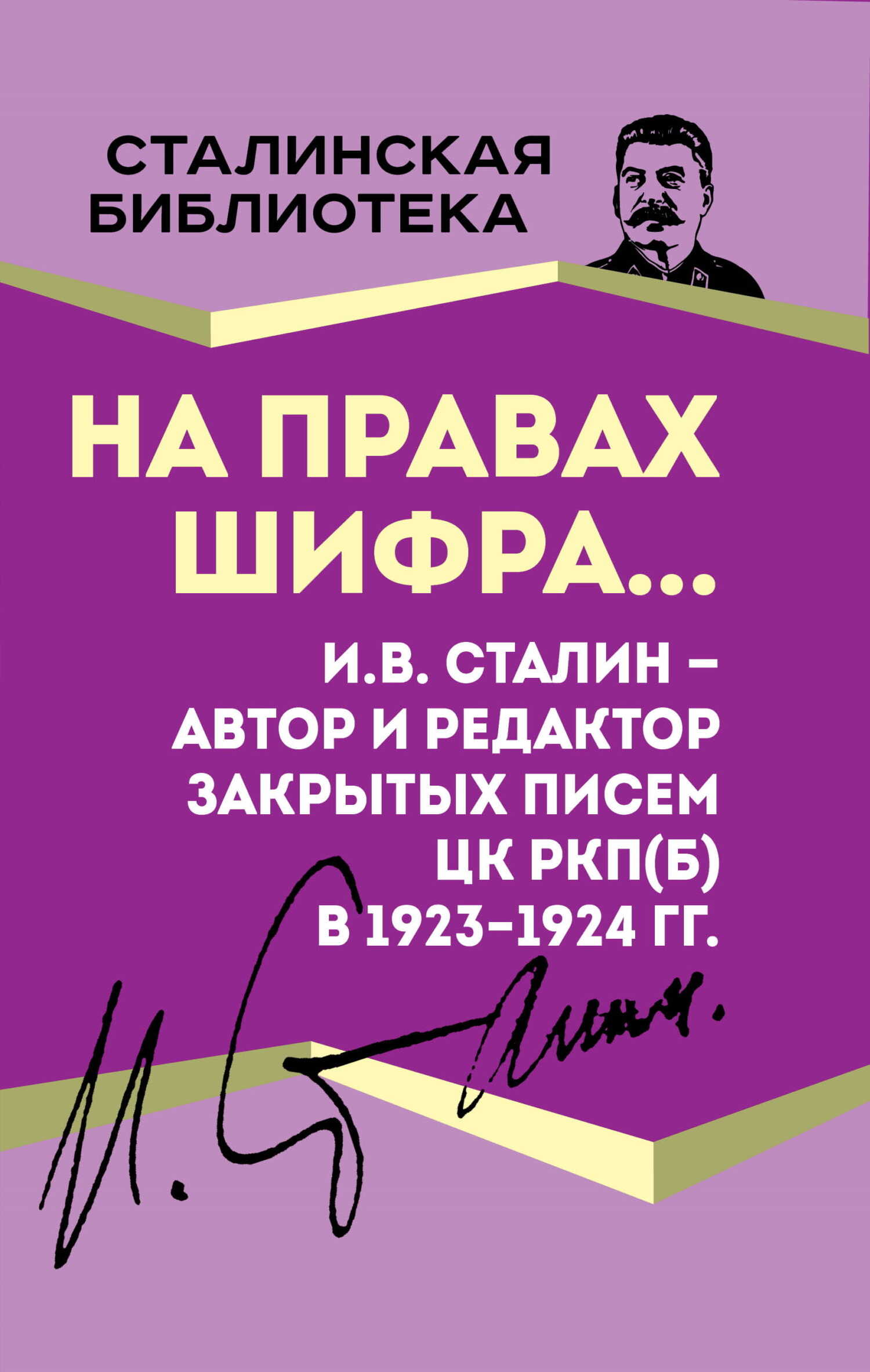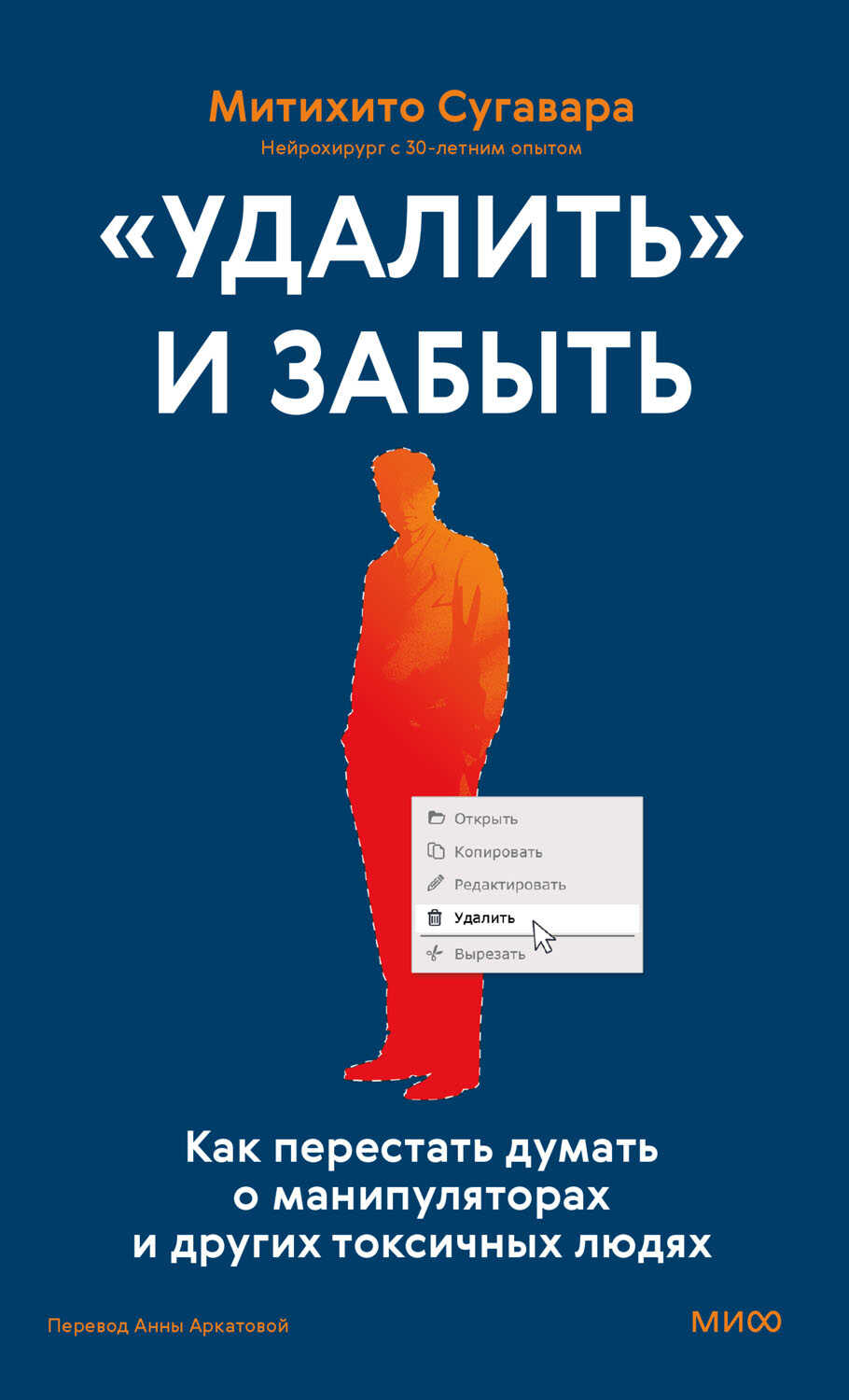Ги де Мопассан
На разбитом корабле[1]
Ги де Мопассан(1850 – 1893)
Вчера было 31 декабря.
Я завтракал у моего старого приятеля Жоржа Гарена. Слуга подал ему письмо, покрытое заграничными марками и штемпелями.
Жорж спросил:
– Ты позволишь?
– Разумеется.
И он принялся читать восемь страниц, исписанных вдоль и поперек крупным английским почерком. Он читал медленно, серьезно, внимательно, с тем интересом, какой вызывает в нас то, что близко нашему сердцу.
Потом положил письмо на камин и сказал:
– Послушай, какая забавная история! Я тебе ее никогда не рассказывал, а история романтическая, и произошла она со мной. Да, странная у меня выдалась в тот раз встреча Нового года. Это было двадцать лет тому назад… ну да, мне тогда было тридцать, а теперь пятьдесят…
Я служил в то время инспектором в том самом Обществе морского страхования, которым руковожу сейчас. Я собирался провести праздник Нового года в Париже – раз уж принято праздновать этот день, – но неожиданно получил от директора письмо с распоряжением немедленно отправиться на остров Рэ, где разбился застрахованный у нас трехмачтовик из Сен-Назэра. Письмо пришло в восемь часов утра. В десять я явился в контору за инструкциями и в тот же вечер выехал экспрессом, доставившим меня на следующий день, 31 декабря, в Ла-Рошель.
У меня оставалось два часа до отхода Жана Гитона, парохода, идущего на Рэ. Я прошелся по городу. Ла-Рошель – действительно необыкновенный и крайне своеобразный город: улицы в нем запутанны, как в лабиринте, над тротуарами тянутся бесконечные галереи со сводами, точно на улице Риволи, но только низкие; эти приплюснутые таинственные галереи и своды похожи на декорацию для заговоров, которую забыли убрать, на старинную волнующую декорацию былых войн, героических и грозных религиозных войн. Это типичный старый город гугенотов, суровый, замкнутый, без тех величественных памятников, которые придают Руану такое великолепие, но замечательный всем своим строгим и даже немного угрюмым обликом, – город упорных бойцов, очаг фанатизма, город, где воспламенялась вера кальвинистов[2] и где зародился заговор четырех сержантов[3].
Побродив немного по этим странным улицам, я сел на черный пузатый пароходик, который должен был доставить меня на остров Рэ. Он отчалил, сердито пыхтя, прошел между двумя древними башнями, охраняющими порт, пересек рейд, вышел за дамбу, построенную Ришелье[4], огромные камни которой, виднеющиеся на уровне воды, окружают город гигантским ожерельем, и повернул вправо.
Был один из тех хмурых дней, что подавляют и гнетут мысль, наводят тоску, убивают бодрость и энергию: пасмурный ледяной день, насыщенный промозглым туманом, мокрым, холодным, как изморозь, зловонным, как испарения сточных труб.
Под навесом низко стелющегося, зловещего тумана лежало море, желтое, мелководное, с бесконечными песчаными отмелями, без ряби, без движения, без жизни, море мутной, жирной, застойной воды. Жан Гитон шел, как обычно, слегка покачиваясь, прорезая густую сплошную массу этой воды и оставляя за собой легкое волнение, легкий всплеск, легкое колыхание, которые быстро затихали.
Я разговорился с капитаном, коротеньким человечком почти без ног, таким же круглым и валким, как его корабль. Мне хотелось узнать подробности крушения, которое я собирался обследовать: большую трехмачтовую шхуну из Сен-Назэра, Мари Жозеф, выбросило в бурную ночь на отмели острова Рэ.
Буря выбросила корабль так далеко, писал судовладелец, что невозможно было сдвинуть его с мели, и пришлось только спешно переправить с него на берег все, что можно было снять. Мне предстояло установить, в каком положении находится судно, определить, каково было его состояние перед катастрофой, и выяснить, все ли меры были приняты, чтобы снять его с мели. Я был послан как представитель Общества, чтобы в случае надобности выступить на суде против истца.
По получении моего доклада директор должен был решить, какие шаги предпринять, чтобы оградить интересы Общества.
Капитан Жана Гитона оказался в курсе дела, так как он со своим пароходиком участвовал в попытках спасти шхуну.
Он рассказал мне о крушении, которое произошло, в сущности, очень просто. Мари Жозеф, гонимый жестоким ветром, сбился ночью с пути и несся наугад по морю, покрытому пеной, «как молочный суп», по выражению капитана, пока не наткнулся на огромные банки, превращающие во время отлива берега этого района в беспредельную Сахару.
Беседуя с капитаном, я смотрел вперед и по сторонам. Между нависшим небом и океаном оставалось свободное пространство, и взор беспрепятственно уходил вдаль. Мы шли вдоль берега. Я спросил:
– Это остров Рэ?
– Да, сударь.
Вдруг капитан протянул вперед правую руку и, указав в открытом море на почти незаметную точку, сказал:
– Вон он, ваш корабль!
– Мари Жозеф?
– Да.
Я был поражен. Эта, почти невидимая, черная точка, которую я принял бы за скалу, казалось, отстояла не менее чем на три километра от берега.
– Но, капитан, – сказал я, – в том месте, которое вы показываете, должно быть, не менее ста брасов[5] глубины!
Он засмеялся:
– Сто брасов! Что вы, мой друг? Там и двух не будет, уверяю вас!..
Капитан, видимо, был родом из Бордо[6]. Он продолжал:
– Сейчас прилив, девять часов сорок минут. А вот вы позавтракайте в «Гостинице дофина», заложите-ка руки в карманы да отправляйтесь погулять по пляжу, и ручаюсь вам, что в два пятьдесят или, самое позднее, в три часа вы подойдете к разбитому кораблю, не замочив ног. Можете пробыть на нем час и три четверти или два часа, но никак не больше, иначе вас застигнет прилив. Чем дальше уходит море, тем быстрее оно возвращается. А отмель эта плоская, как клоп! Так не забудьте: в четыре пятьдесят вы должны отправиться обратно, а в половине восьмого вам надо быть на Жане Гитоне, который в тот же вечер высадит вас на набережной Ла-Рошели.
Я поблагодарил капитана и отправился на нос парохода – посмотреть на городок Сен-Мартен, к которому мы быстро приближались.
Городок этот похож на все миниатюрные порты, столицы мелких островов, рассеянных вдоль материка. Это большое рыбацкое село стоит одной ногой в воде, другой на земле, питается рыбой и птицей, овощами и ракушками, редиской и мидиями[7]. Остров низкий, плохо обработан, но густо населен; впрочем, я не заходил вглубь.
После завтрака я прошел на небольшой мысок, и так как море быстро отступало, я отправился через пески к черному утесу, выступавшему над водою далеко-далеко.
Я быстро шел по этой желтой равнине, упругой, как живая плоть, и, казалось, покрывавшейся испариной под моими шагами. Море только что было тут, но теперь я видел, как оно убегало вдаль, почти теряясь из виду, так что я уже не мог различить линию, отделяющую пески от океана. Мне казалось, что я присутствую при величественной, волшебной феерии. Атлантический океан сейчас еще был передо мною, и вдруг он ушел в отмель, как декорация в люк, и я шел теперь посреди пустыни. Оставалось только ощущение, только дыхание соленой воды. Я чувствовал запах водорослей, запах волн, крепкий и приятный запах побережья. Я шел быстро, и мне уже не было холодно, я глядел на разбитый корабль, и по мере того, как приближался к нему, он все увеличивался и теперь походил на огромного кита, выброшенного на берег.
Корабль, казалось, вырастал из земли, принимал чудовищные размеры на этой необозримой желтой равнине. После часа ходьбы я наконец добрался до него. Он лежал на боку, искалеченный, разбитый; его сломанные ребра, ребра из просмоленного дерева, пронзенные огромными гвоздями, выступали наружу, как ребра зверя. Песок уже вторгся в него, проник во все щели, овладел им с тем, чтобы уже не выпустить. Судно словно пустило в него корни; нос глубоко врезался в мягкий и коварный грунт, а поднятая корма, казалось, бросала в небо как отчаянный вопль два белых слова на черном борту: Мари Жозеф.
Я взобрался с накренившейся стороны на этот труп корабля и, очутившись на палубе, сошел в трюм. Свет, проникая через разломанные трапы и трещины, тускло освещал длинный, мрачный погреб, загроможденный обломками деревянных частей. Здесь тоже не было ничего, кроме песка – почвы этого дощатого подземелья.
Я принялся делать заметки о состоянии судна. Усевшись на пустую разбитую бочку, я писал при свете, проникавшем из широкой трещины, сквозь которую виднелась бесконечная гладь отмели. От холода и одиночества у меня порой пробегали мурашки по спине, иногда я бросал писать, прислушиваясь к смутным и таинственным шорохам внутри корабля: к шороху крабов, скребущих обшивку крючковатыми клешнями, к шороху множества мельчайших морских животных, уже водворившихся на этом мертвеце, а также к тихому, равномерному шороху древоточца, который, скрипя, как бурав, безостановочно сверлит старое дерево, разрушая и пожирая его.