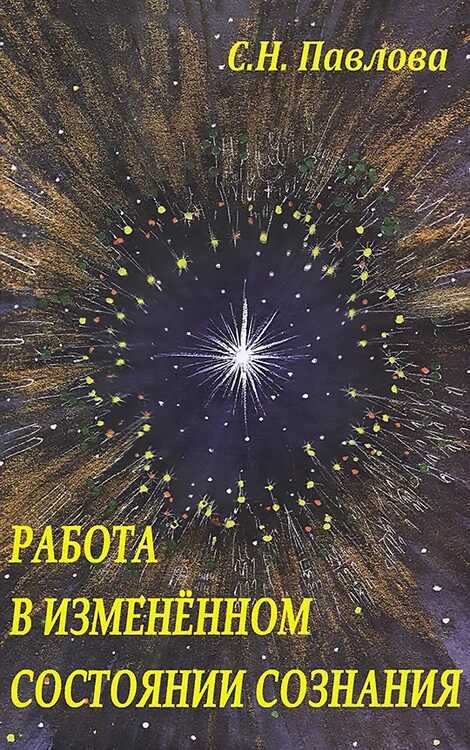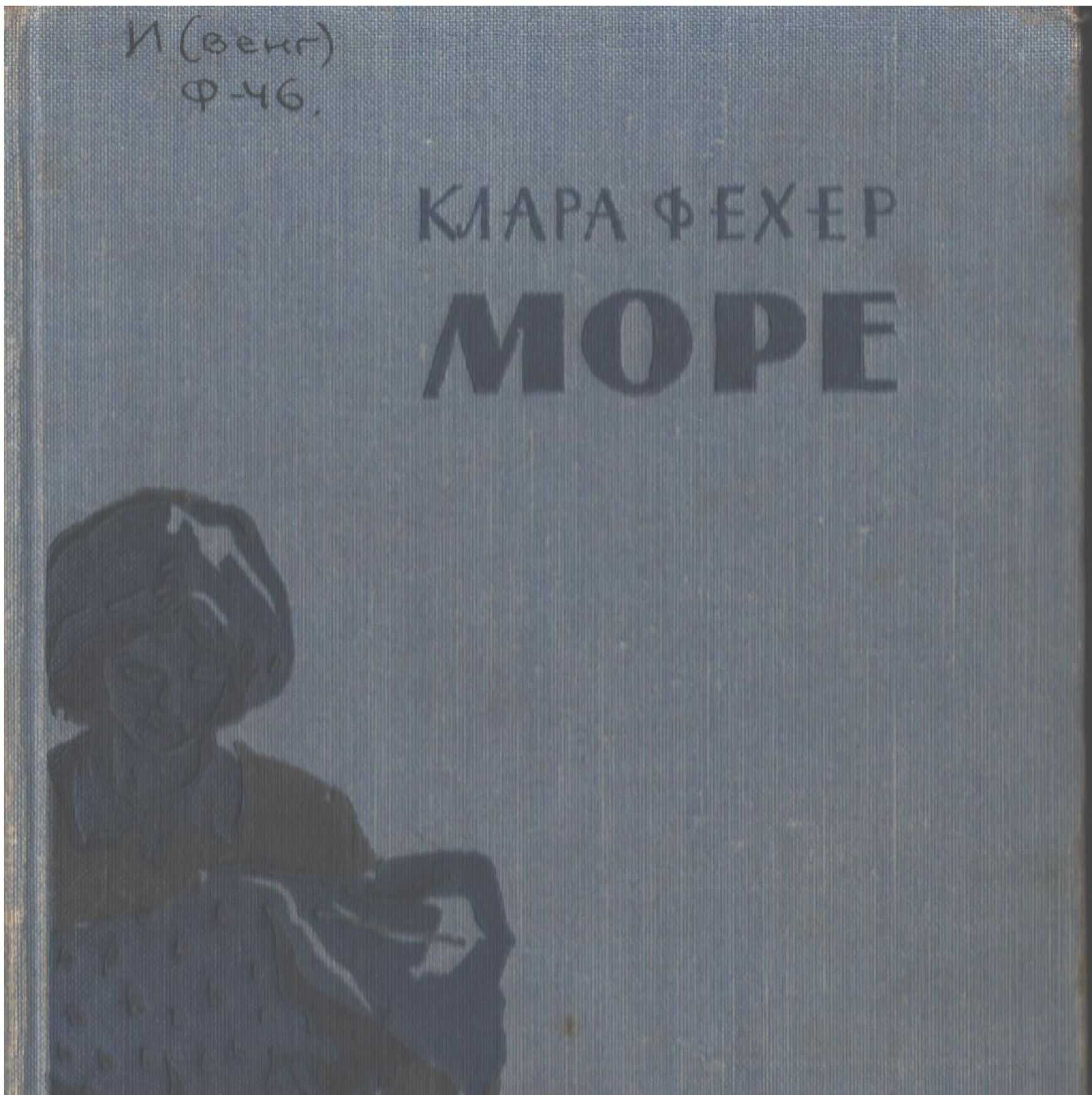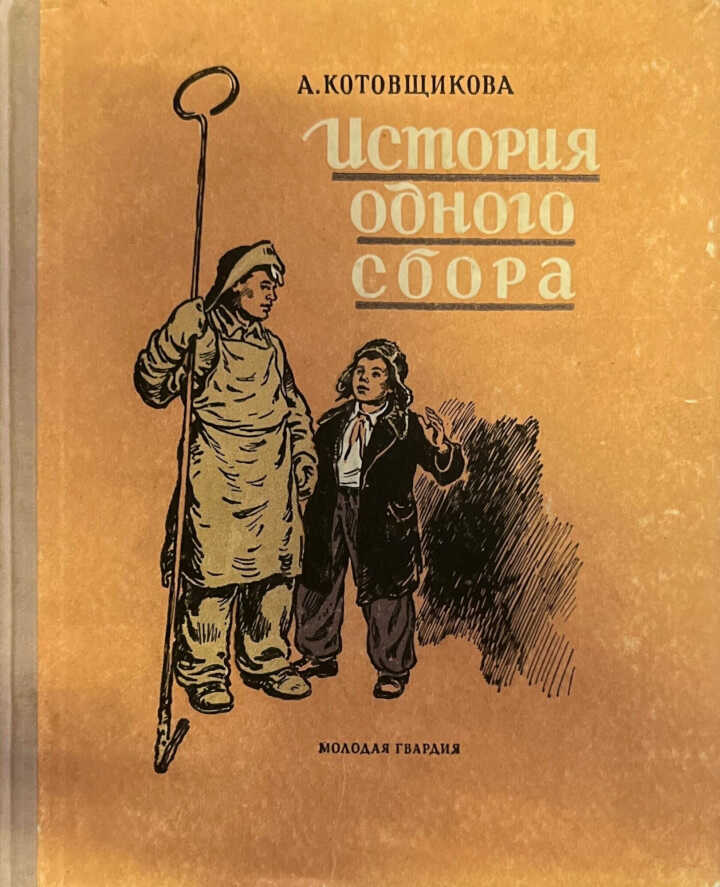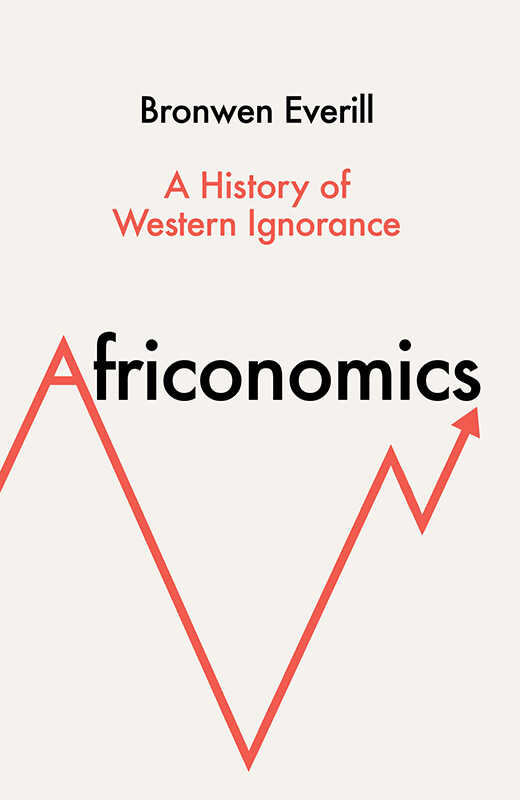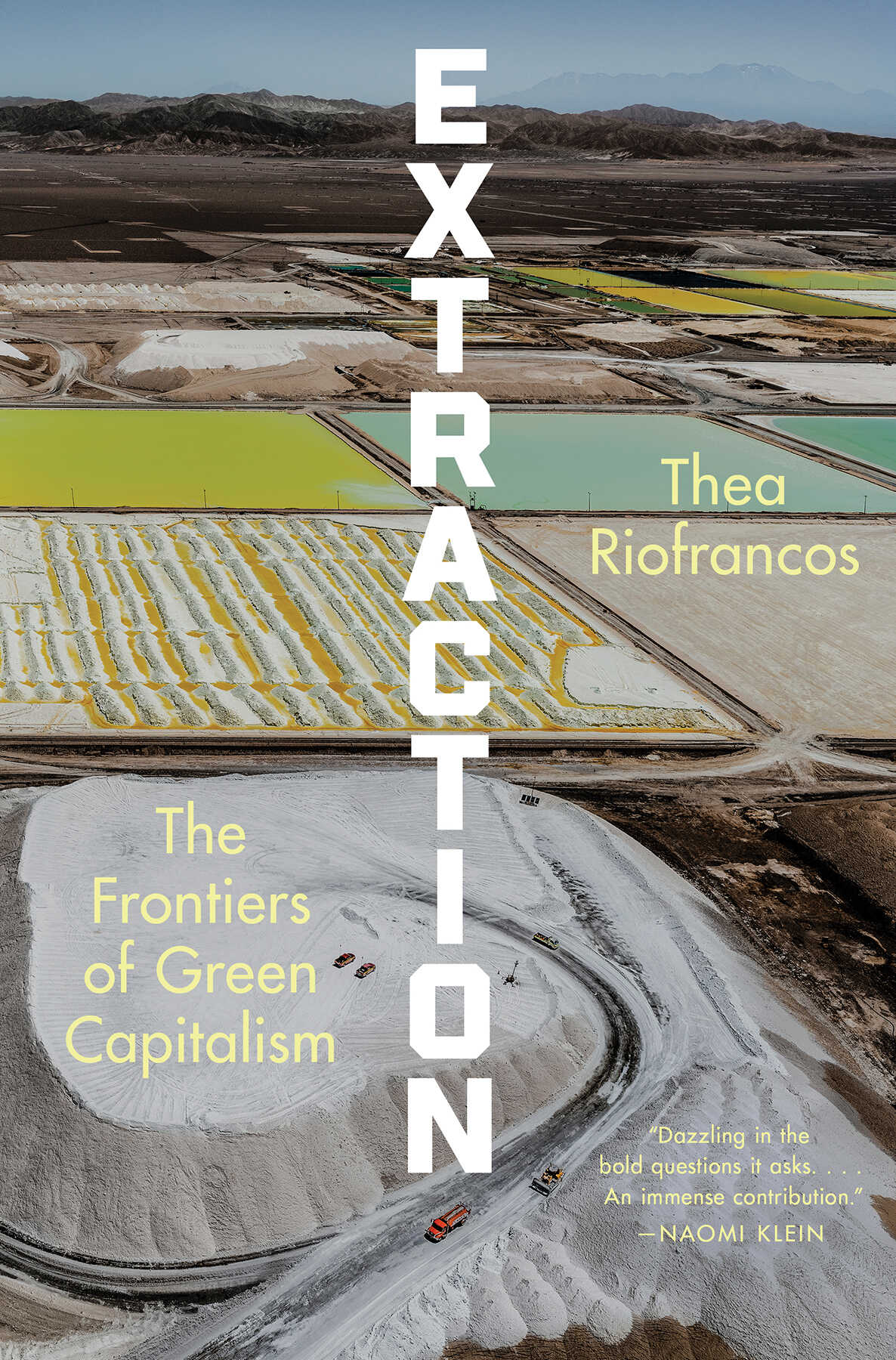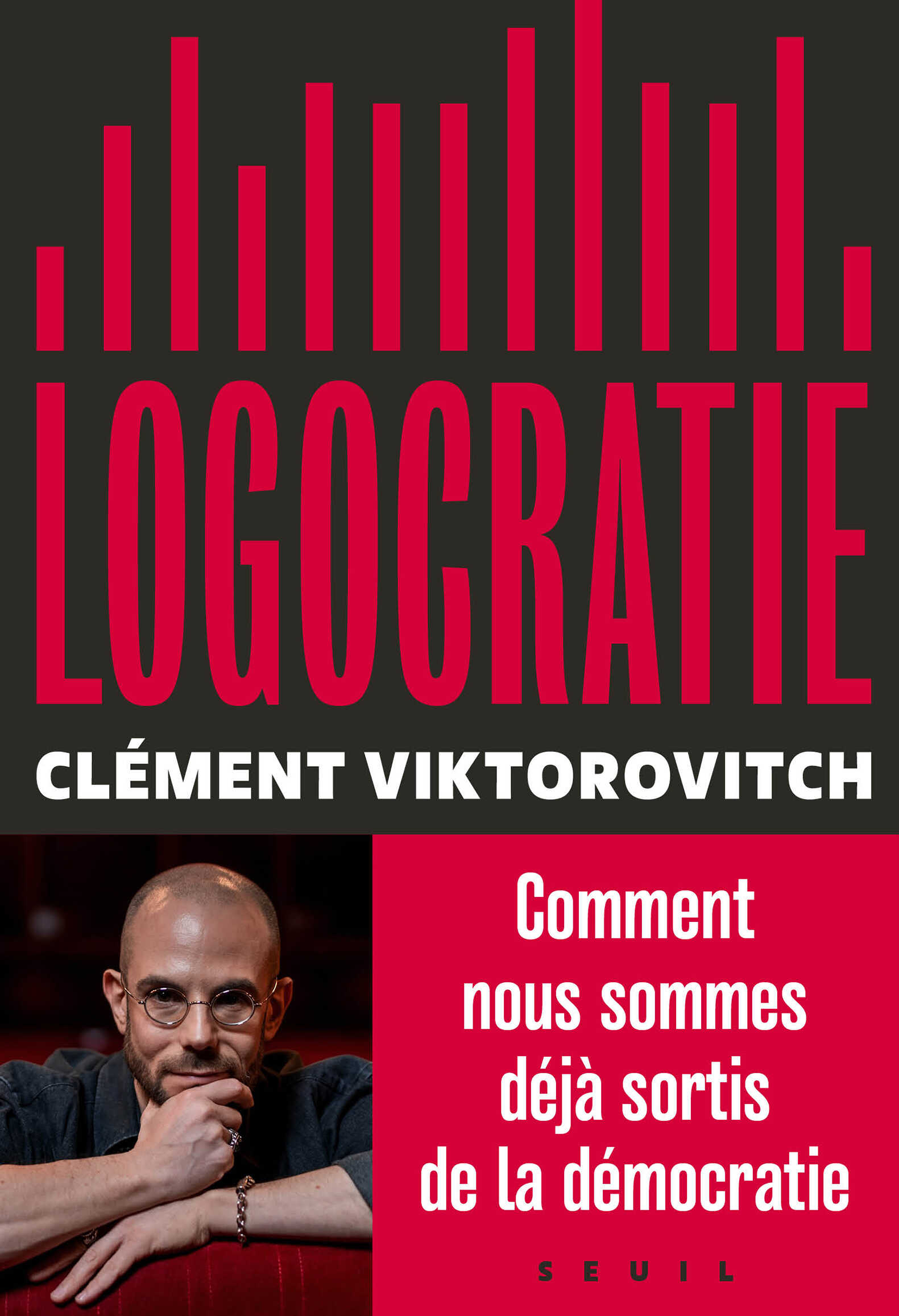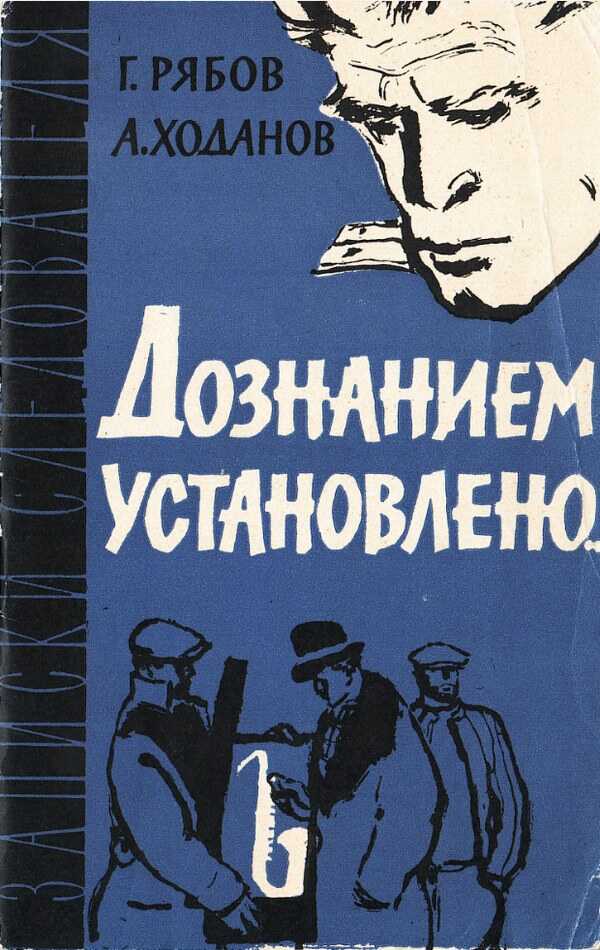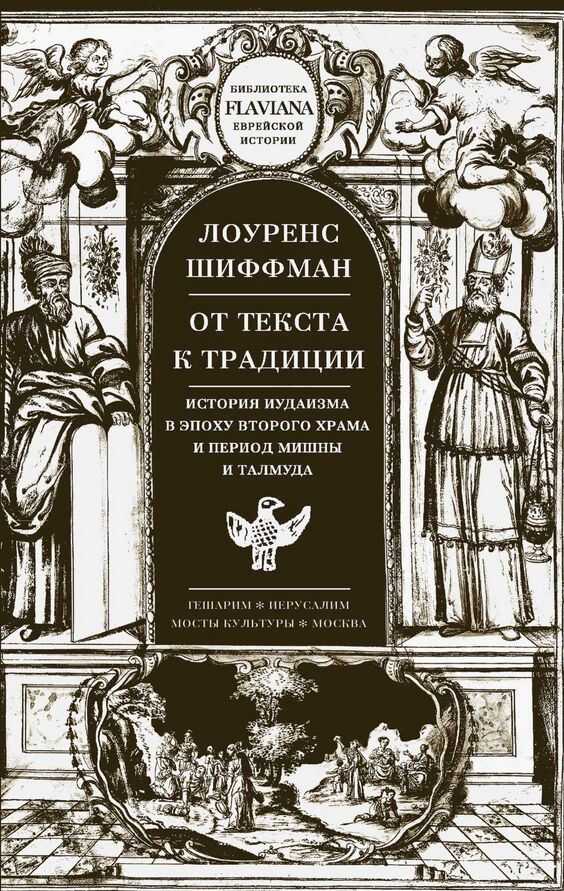Море-2 - Клара Фехер
- Ты глупа...
- Я подумала: эта девочка, наверно, умеет хорошо готовить. Сытные и дешевые блюда: картофель с паприкой, кнедлики с маком. И какие у нее, наверно, красивые ноги, конечно, эти грубые ботинки... Я должна признать, что в богатой коллекции твоих девиц эта девочка самая волнующая. У нее свои собственные пепельные волосы.
- Ты кончила?
- Что с тобой, ты даже похудел? Не дала ли она тебе пощечину? -спросила Эва и пожала плечами. Затем, искоса наблюдая за братом, снова села за рояль.
- Держу пари, что ты читаешь Овидия.
- Проиграла, - буркнул Тибор и занялся толстой книгой. Много раз читанная «Божественная комедия» открылась сама собой на третьей главе, на строчках, которые помогали Тибору при любом душевном состоянии забыть обо всем:
Великий творец принес справедливость.
Власть небесного бога,
Любовь и Разум древних...
Чечевичная похлебка
Доктор Аладар Ремер добрел до своей старой квартиры, держа под мышкой стоптанную женскую туфлю и мешочек сухого гороха. Ключа не было, да в нем и нужды не было - дверь оказалась без замка. Но если бы даже замок и был, он все равно не явился бы преградой, так как в дверях не хватало большой, с квадратный метр, филенки. В прихожей остались неповрежденными только две стены, а из кабинета исчез огромный резной письменный стол. Император добрел до книжной полки, сел на пол и громко заплакал. Он не испытывал никакой боли, да и голод чувствовался не очень сильно. Его угнетала царящая неразбериха и собственная беспомощность. Он мечтал о чем-то неопределенном, может быть, теплых мягких объятиях, о свежей постели, о ласке жены, а может быть, о старом кресле перед камином, о томике стихов Гёте и чашке чая. О чем-то таком, ради чего стоило бы жить дальше. Об Ольге он не знал ничего. Когда его забрали и держали в тюрьме, устроенной в здании бывшего учительского института на улице Силарда Рэкк, он все надеялся, что жена придет за ним. «Она не может оставить меня здесь, не может оставить...» - исступленно бормотал он. Ему вспоминались лучшие минуты их совместной жизни, белое теплое тело жены, и его начинала одолевать мучительная тоска; порой ему казалось, будто он сходит с ума. «Не может она оставить меня здесь». Он вспоминал о купленных Ольге драгоценностях, о восторженных восклицаниях и поцелуях, которыми она встречала его, когда он приносил ей из магазина шелковые тряпки. «У нее было всего сто десять пенге, когда я женился на ней, пять тысяч дал я ей в первую же неделю на платья... Нет, она не оставит меня здесь». Он воскрешал в памяти и другую картину, ту ужасную ночь, когда Ольга настаивала, чтобы они разошлись. Сейчас, в разгромленной квартире, сидя, съежившись, на ковре, озаренный ярким светом солнечного дня, он не верил, что Ольга вернется. Когда его забрали, наверное, тотчас же был оформлен развод. Может быть, Ольга снова вышла замуж, может быть, за фашистского офицера и сейчас живет в их вилле, на горе... А может быть, он уехал на запад, да, скорее всего, и она уехала с ним на запад, и теперь живет в Германии или в Швейцарии, и он ее больше не увидит. Доктор Ремер плакал, громко всхлипывая. Он уже не думал ни о чем, он плакал, как ребенок, который давно уже забыл о том, что ударился, или о том, что его испугало, или о том, что хотел есть, но продолжал плакать.
Он не слыхал, как кто-то вошел в комнату, и только тогда вздрогнул, поднял голову с застывшим непониманием во взгляде, когда с громким воплем к нему бросилась женщина с желтой, как пергамент, кожей, спутанными волосами, худая, как скелет, незнакомая и в то же время очень знакомая.
- Ольга! Ольга!
- Мышонок мой!
Она обняла его, помогла ему встать и отвела в единственную уцелевшую в квартире комнату по другую сторону лестничной площадки, посадила, набросила одеяло на его дрожащие плечи. Через несколько минут он пришел в себя и даже заметил, как постарела его жена: на лице морщины, в движениях усталость, особенно, когда она бросает в огонь остатки сломанной мебели. Перед большим, обвалившимся черепичным камином стояла печка-времянка с разбитой плитой. Печка ужасно дымила, тепла давала мало. На ней в кастрюльке кипела какая-то неопределенная жидкость. Здесь, в прекрасной спальне Ольги, выбитое стекло огромного трехстворчатого окна было заклеено пузырящейся бумагой. На веревке, протянутой над французской кроватью, сушились блузка и комбинация. На полу перед венецианским зеркалом стояла старая дорожная корзина с топливом: ножками от стульев, обломками балок, какими-то планками. Труба жалкой печурки входила в камин, но от пробивающейся сквозь щели копоти на кремовых стенах комнаты образовались темно-коричневые полосы.
Доктор Ремер, выпив кружку теплого, несладкого, настоянного на каких-то ужасных травах чая, дремал в кресле. Только через несколько часов до него, наконец, дошло, что его жена непрерывно рассказывает, рассказывает что-то. Начала рассказа он не помнил, а середины не понял.
- Бог его накажет! Накажет! Судьба не пощадит его ребенка! Будь он навеки проклят! Если есть бог, он накажет его! Как только тебя забрали, ангел мой, я пошла к нему, на коленях просила его освободить тебя из тюрьмы. Я отдала ему свою золотую цепь, отдала бриллианты, все отдала... Он задрал нос, требовал еще, я сказала - больше у меня ничего нет. На следующий день пришли из гестапо с обыском, перевернули все вверх дном. Искали лондонские письма... Это Татар заявил на нас, другой никто не мог, будь он проклят... Я написала ему! Еще в июне, с кирпичного завода... написала, что меня увозят оттуда, просила его помочь, но он не помог... Радовался, что мы подохнем, радовался, что погибнем, что он сможет захватить мое имущество, виллу, жить здесь с любовницей... Чтоб их бог наказал... Нет, нет, на бога нечего надеяться, я сама сделаю, вот этими ногтями я выцарапаю ему глаза. Он разорил нас, погнал на смерть, я больная, у меня что-то с легкими...
Упав на кровать, Ольга плакала, громко всхлипывая. Доктор Ремер не чувствовал ничего, кроме усталости. Ему было хорошо сидеть здесь: в печке потрескивали поленья. Выпить бы еще чашечку теплого чаю и лечь в кровать, настоящую кровать, укрыться с головой, как любил делать в детстве, и