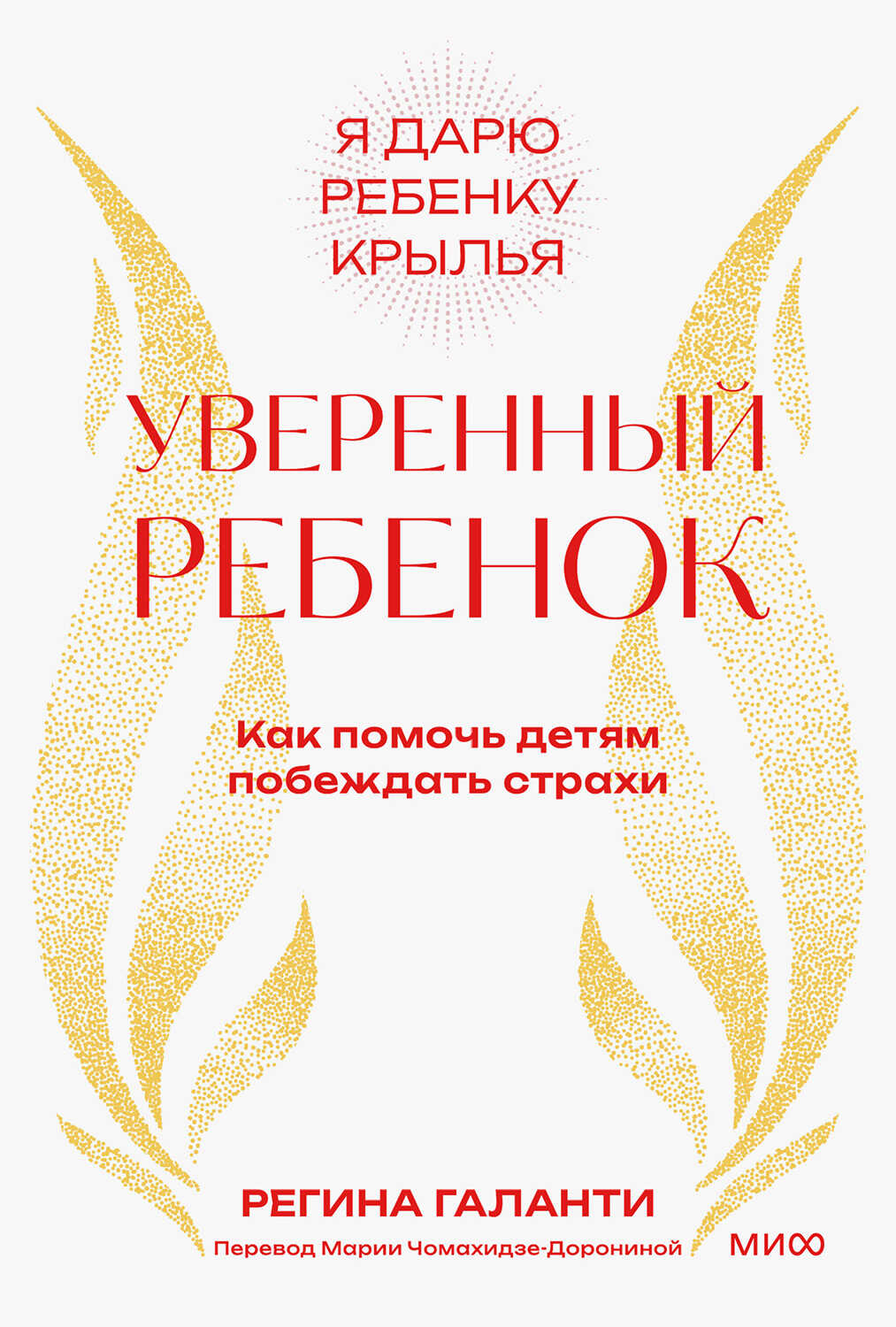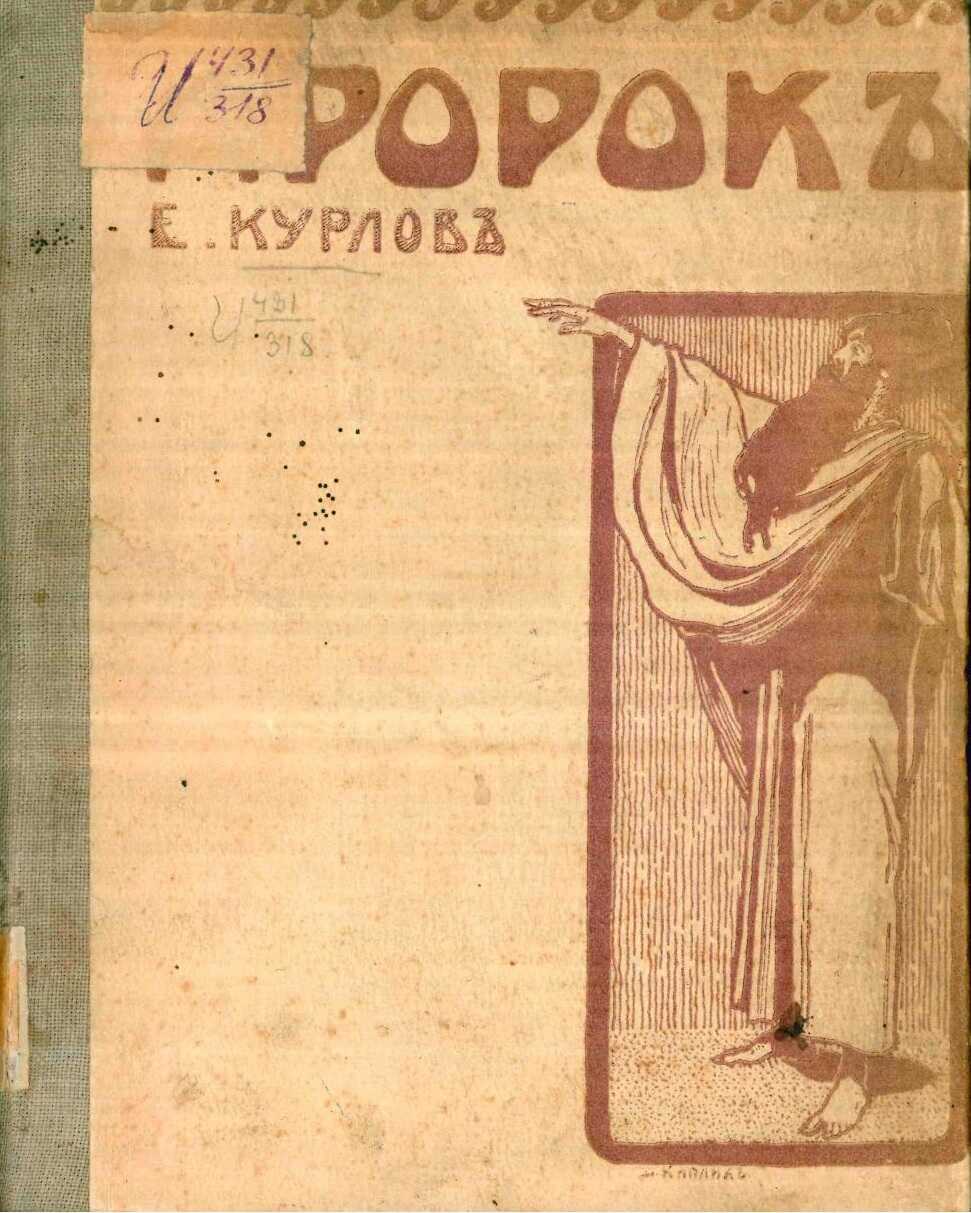Владимир Лазарис
Белая ворона
Роман
Светлой памяти мамы и папы
«Каждый человек проживает свою жизнь не только как индивидуум, но, осознанно или нет, жизнь своей эпохи, своих современников».
Томас Манн, «Волшебная гора»
Часть первая
1
Азиз Домет смутно помнил Каир, где он родился. Помнил только, что все было огромным: река, пирамиды, сам город. Он рос с младшими братьями Салимом и Амином под строгим наблюдением отца. Господин Сулейман Домет был директором Немецкой школы в Каире, а в свободное время сочинял музыку к песнопениям в протестантской кирхе. В отцовском кабинете висели фотографии усатых и бородатых дедов и прадедов семьи Дометов из сирийского города Суфита, а рядом — большой портрет немецкого кайзера Вильгельма II. Азиз думал, что это еще один его предок. Справа от кайзера висела большая географическая карта, где одно место на береговой части Восточной Африки было обведено красным карандашом. На вопрос Азиза, что там обведено, отец произнес три непонятных слова «Дар-эс-Салам» и задумался. Он вспомнил этот портовый город, где служил переводчиком в немецком консульстве и где у его отца было немного акций алмазных приисков. Африка была раем. Бессловесные негры по первому же знаку прибегали с опахалом и с кувшином ледяной воды, в саду летали птицы с волшебным оперением, а за окном лежал Индийский океан.
— Папа, о чем ты думаешь? — спросил Азиз.
И отец начал рассказывать. Азиз слушал не дыша. Ореол отца засиял с новой силой: папа жил в Африке и купался в океане!
Когда Азизу было шесть лет, семья Дометов переехала из Каира в Иерусалим. Азиза отдали в школу, которой заведовал лютеранский миссионер, пастор Людвиг Шнеллер. Эту школу все так и называли «Шнеллер». Азиз носил серый мундирчик, такие же брюки, черные ботинки и красную феску. В мрачном здании «Шнеллера» по длинным коридорам никто не бегал и не шумел: это строго запрещалось. В классе полагалось сидеть, выпрямив спину, положив руки на парту и глядя только на учителя. Азиз очень любил уроки немецкого языка и литературы. Немецкий стал для него вторым родным языком. Отец внушал ему, что с великой немецкой культурой никакая другая культура не сравнится, как никакой другой язык не сравнится с немецким, и учитель немецкого языка, герр Витхофф, не мог нахвалиться маленьким арабским мальчиком, который наизусть читает целые куски из Гете и сам пробует писать стихи.
Раз в неделю отец брал своего первенца Азиза на прогулку по Иерусалиму. Они бродили по Старому городу, заходили в Еврейский квартал, в Армянский, потом шли на Русское подворье, в Немецкую колонию с ее ухоженными домами под черепичными крышами и с непременными палисадниками. «Вот она, Европа, — говаривал отец. — Даже на Восток немцы сумели перенести кусочек Германии». Рассматривали они и витрины, любовались проезжавшими каретами и дилижансами, рядом с ними нередко вышагивали верблюды, тащились нагруженные товарами мулы и ослы. На ослах Дометам домой привозили молоко в ведрах и оливковое масло в кувшинах. У каждого торговца была своя мерная кружка. Оливковое масло из Хеврона было зеленоватым, густым и с горьковатым привкусом. В погребе стояли мешки с мукой, с рисом и с сахаром. Сулейман Домет был человеком запасливым.
Во время прогулки с отцом Азиз всегда ждал встреч: с точильщиком ножей, на которого он с испугом смотрел, прячась за отцовскую спину от летящих из-под ножа искр; со старым цыганом, у которого была маленькая обезьянка в красной жилетке и в синих штанах. Она кувыркалась, скалилась и протягивала прохожим сморщенную ладошку, в которой была зажата бумажка с предсказанием будущего, обычно счастливого; и с продавцом финикового сока. Продавец в черных шароварах и в туфлях без задников нес в руках огромный кувшин. Носик кувшина напоминал хобот, и, когда продавец наклонял кувшин, оттуда лился сладкий-пресладкий сок. Но самым замечательным были медные тарелки, на которых продавец вызванивал условные знаки: один удар — сок сегодняшний, два — вчерашний, три — осталась только гуща.
Азиз видел, с каким уважением кланяются его отцу знакомые. Они нередко трепали Азиза по щеке и совали ему в карман сладости.
Сулейман Домет любил Иерусалим — Азиз этого города побаивался, потому что однажды услышал, как мама сказала папе: «Иерусалим его убил». Азиз понял, что город, в котором они живут, колдовской. Захочет — и убьет человека.
Лица юрких армян и печальных евреев, прекрасные особняки иностранных консулов, миссионеров и арабских купцов — все перемешалось в детских воспоминаниях. И только особняк богача Исмаила Бека эль-Хуссейни, о котором любил рассказывать отец, хорошо запомнился.
Назывался особняк «Ориент-хауз» и был одним из самых роскошных в Иерусалиме, под стать положению его владельца. Исмаил эль-Хуссейни строил дома в Иерусалиме и в Рамалле, завод по производству оливкового масла в Шхеме, открыл лодочную станцию на Мертвом море, искал нефть в районе Иерихона и при турках возглавлял Совет по делам арабского образования.
Стоявший на возвышении, «Ориент-хауз» всегда смотрел на прохожих сверху вниз. Внутренний дворик был засажен розами, гвоздиками и геранью, а в углу бил небольшой фонтан. В доме была огромная гостиная, обставленная в лучших традициях Востока. Вдоль стен — диваны, резные кресла красного дерева, привезенные из Египта, посередине — стол, на нем большая ваза с цветами. Когда заканчивалась официальная часть приемов, мужчины переходили из гостиной в кабинет покурить и побеседовать. В кабинете висела хрустальная люстра с разноцветными подвесками в виде виноградных гроздей.
Этот двухэтажный особняк с литыми воротами, украшенными арабскими письменами, и с открытой галереей, над которой нависла мансарда, конечно же оказался наиболее подходящим местом для приема немецкого кайзера Вильгельма II, посетившего Землю обетованную.
Все жители Иерусалима высыпали на балконы, на крыши и на главную улицу Яффа. В честь высокого гостя многие иерусалимцы расстелили у домов ковры, а на окнах средь бела дня зажгли свечи. Больше всех были возбуждены евреи из Германии, которые громко скандировали: «Да здравствует кайзер!» На пути кортежа высокого гостя стояли и ученики «Шнеллера» вместе с учителями. Азиз во все глаза смотрел на оживший портрет кайзера, висевший в отцовском кабинете, и готов был поклясться, что портрет ему подмигнул.
— И надо же было случиться несчастью как раз в такой день! —




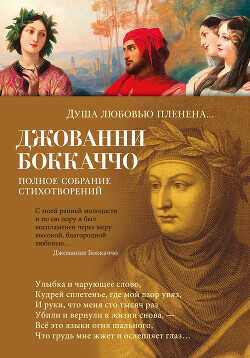


![Кармилла [сборник] - Джозеф Шеридан Ле Фаню](/uploads/posts/books/420583/420583.jpg)