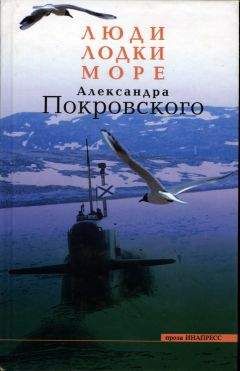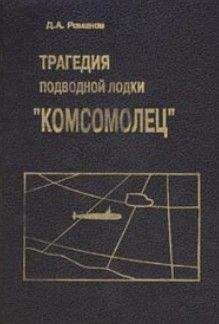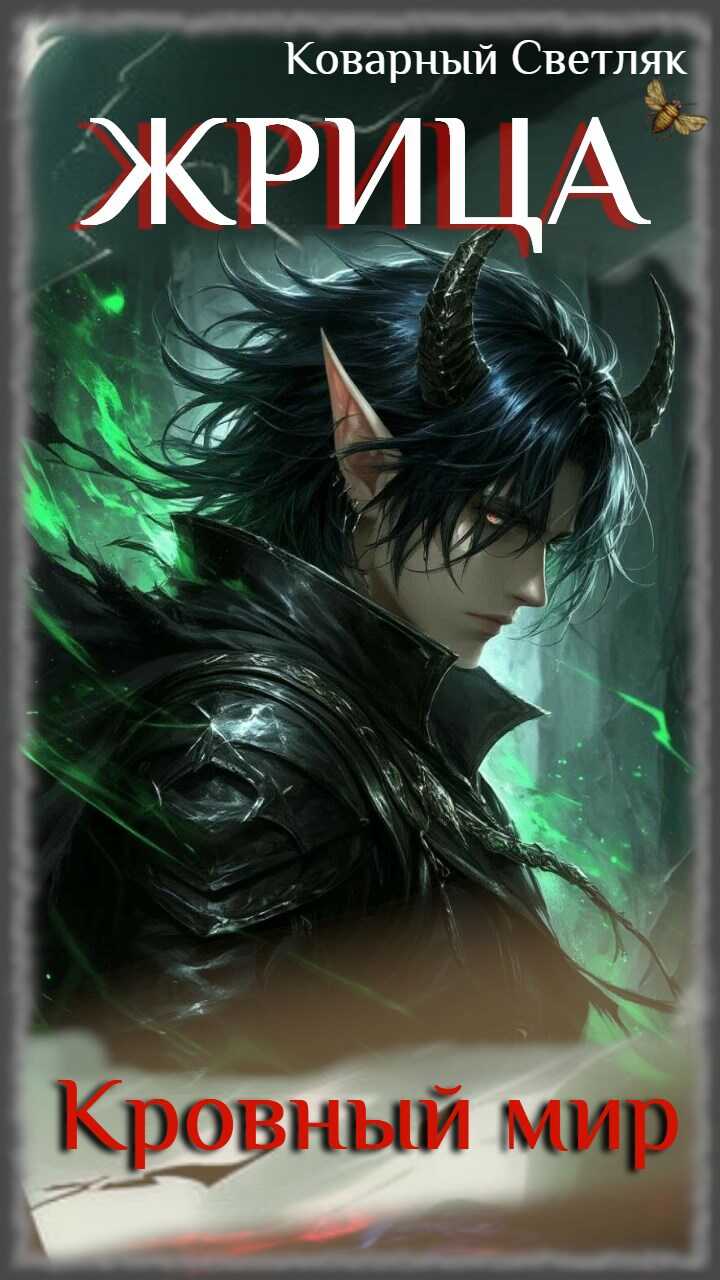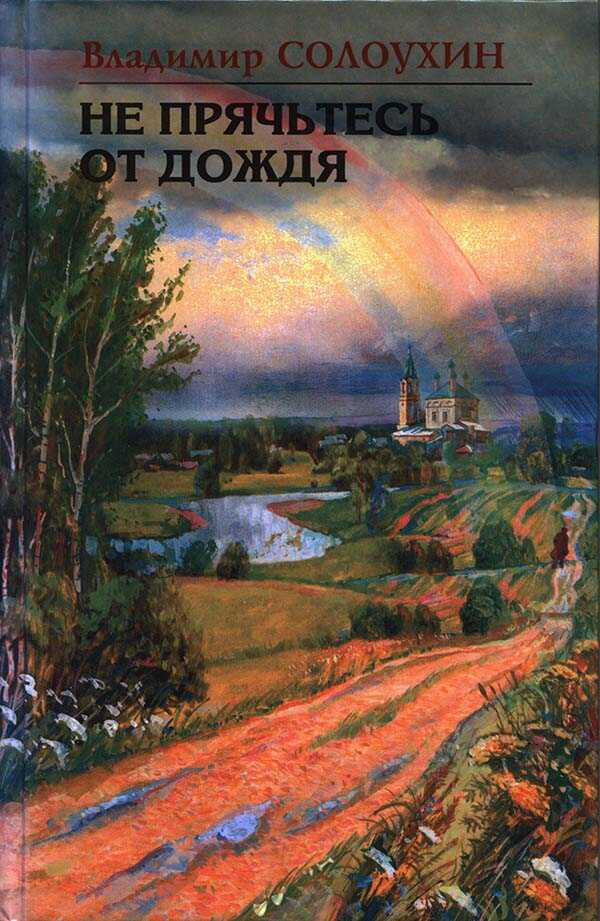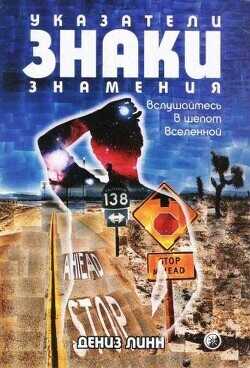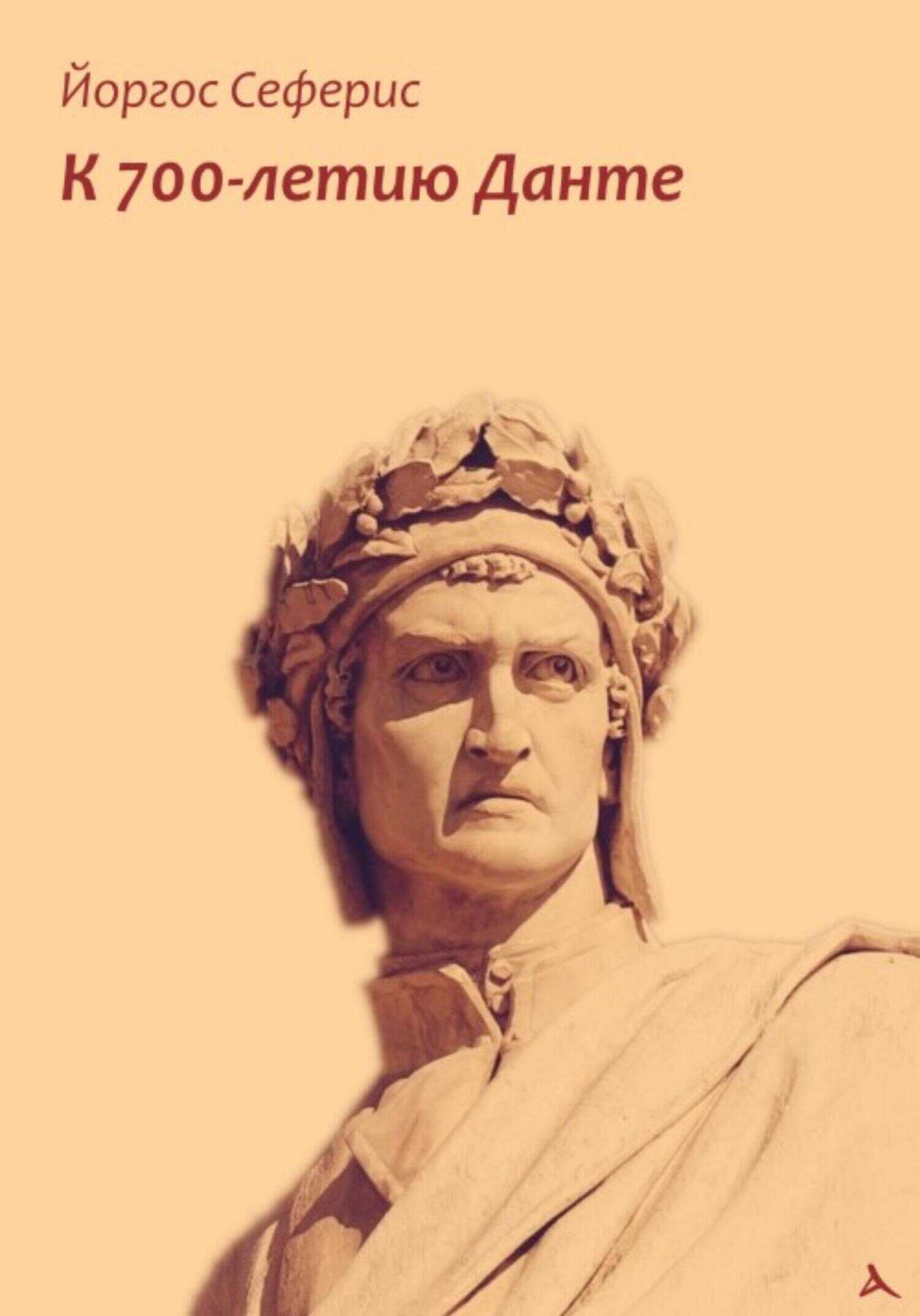Книжка-подушка - Александр Павлович Тимофеевский
Ознакомительная версия. Доступно 15 страниц из 98
вы убедились, что зло победило, но как, почему оно сделалось добром?– Слушайте, человеку не нужны конфликты, никакому, это нормально. Не надо бояться противоречий, но культ из них делать тоже незачем. Человек хочет быть в мире с окружающим. И это тоже нормально. Я бедствовала при НЭПе, работы не было, денег не было совсем, а потом появились и работа, и зарплата. Бытие определяет сознание, тут эти сволочи правы.
– Но они ведь были не просто сволочи, мирные и уютные. Они были деятельные, кровожадные сволочи, агрессивно невежественные к тому же, как этого можно было не замечать?
– А я и замечала. Еще как замечала. Но грезилось-то другое. И это другое все затмило и вытеснило. Так бывает. Забудьте про целокупность, эту немецкую философию. Я лучше историю из жизни расскажу.
И вот тут возникал Лев Львович. История была про горячий май-июнь 1936 года, горячий в переносном смысле – уже пошли аресты, но и в прямом тоже: день в Ленинграде выдался солнечный, и вечер тоже был солнечный, когда Надежда Януарьевна села ужинать с Раковым, и они сразу заговорили об общей беде: арестовали НН, близкого обоим, безобиднейшего НН, не похожего ни на троцкистско-зиновьевского изверга, ни на японского шпиона. Ох, ах, какое нелепое недоразумение, но там, конечно, разберутся, и НН выпустят, вот увидите, а солнце сияет и не скоро зайдет, впереди белая ночь и вся жизнь впереди, им нет тридцати пяти, и жарко пахнет сиренью, и неумолчно поют соловьи. И Надежда Януарьевна, зажмурившись от того, что должна сейчас сказать, отчетливо произносит:
– А знаете, Лев Львович, что бы там ни происходило, но это мое государство, мой народ, моя страна, моя власть.
Лев Львович изумился:
– Да? Правда? Ваша власть? В самом деле? А тогда скажите, Надежда Януарьевна, за что вы посадили НН?
Рассказывая об этом, Н. Я. смеется:
– Я, конечно, вздрогнула от этого вопроса, вздрогнула, но тут же его отбросила. Дура была.
Про Льва Львовича еще помню чудесный рассказ. В первые дни войны Н. Я. встретила его на улице в Ленинграде:
– Лев Львович! Лев Львович! Что же происходит! Какой ужас!
Он посмотрел на нее спокойно:
– Ну что вы так нервничаете, Надежда Януарьевна! Ну, придут немцы… Но вы же понимаете, они не надолго. Рано или поздно их все равно прогонят американцы. А потом… – лицо Льва Львовича сделалось мечтательным – потом все читают Диккенса.
И, помолчав, добавил:
– А кто не хочет, тот не читает.
Это конец июня 1941 года, а уже в июле Лев Львович пошел добровольцем в Красную Армию, прорывал блокаду, закончил войну полковником и директором «Музея обороны Ленинграда», куда блокадники несли свои драгоценные реликвии, весь свой ужас, все сохраненное и выстраданное. Публичную библиотеку Лев Львович возглавил по совместительству, уйти из «Обороны Ленинграда» было невозможно, да и называли его в городе «блокадным директором». Но в музее было много оружия, и не важно, что битого, ни к чему не годного, оно же когда-то стреляло, с ним могли замышлять покушение на тов. Сталина, значит, оно злодейски готовилось. Музей был закрыт и разгромлен, бесценные экспонаты выброшены на улицу и уничтожены, а сам Лев Львович получил «25 лет тюремного заключения, с поражением в правах на 5 лет». Про этот приговор он потом говорил: «Ну ладно, двадцать пять лет тюрьмы – куда ни шло, но потом в течение пяти лет не голосовать – нет, это уже слишком жестоко!» Тоже ведь, «эх, как сказал», причем в моем любимом роде – мягкой, даже мягчайшей иронии, самой нежной, самой убийственной.
Если влюбляться в девочку, то в Тотю, если в мальчика, то в Ракова, и какая разница, что их нет в живых? Ведь прекраснейшей Тотей пленялся не только Орбели, но и Щеголев, и Пунин, а Лев Львович – вообще лучший, единственный, без всякой поганой расхожей андрогинности, умный и мужественный, такую комбинацию давно не носят. Он при речистом своем интеллекте был совсем мальчик-мальчик, мечтал стать моряком, но в военное училище его из-за дворянства не взяли, пришлось сделаться историком и в сталинском лагере потом сочинять «Новейшего Плутарха», шутейного, понятное дело. Но выставку про русское оружие он в тридцатые годы в Эрмитаже делал всерьез и, выйдя из лагеря, всерьез работал над книгой о форменной одежде.
Для людей из 1976 года форменная одежда была отстоем, хорошая одежда должна быть фирменной, Леон уважал пальто старинного кроя Loden, классический виски и сигареты из «Березки», сыну членкора к ним полагалась академическая дочка, и она была в ассортименте. Я был призван придать этой немножко типовой элегантности остроту и продвинутость небанальных соединений.
– Мы с вами Кузмин, Юркун и Гильдебрандт, всюду вместе – радостно сообщил мне Леон. – Я Кузмин, а вы, Шурочка, – Юрочка.
– Вообще-то наоборот. Не Кузмин был женат на Гильдебрандт, а Юркун. Выходит, что именно вы – Юрочка, иначе не складывается.
– Ну и отлично, – сразу согласился Леон. Тогда мы Мережковские – Дмитрий Сергеевич, Зинаида Николаевна и Философов, они тоже ходили втроем. Это-то складывается!
Но и это не складывалось, мы редко ходили втроем, Леон дружил с Сережей, надо о нем написать, еще с тысячью людей, все встречались в Сайгоне, где кто-то обязательно за нами увязывался, и мы шли компанией дальше выпивать по злачным местам, а иногда и по дворам, и даже по парадным, в Питере были изумительные парадные, в них тогда водили гостей, как во дворец, но могли оказаться и в ресторане, за столом с белой скатертью, на Витебском вокзале, например, перед поездом в Царское (г. Пушкин) или на обратном пути оттуда. Там можно было вкусно отужинать, взять горячего бульона с яйцом, который хорошо оттягивает плещущий в организме алкоголь, там зеркальная модерновая стойка до потолка, такой бар в Фоли-Бержер, и в стеклянное его озеро, наполненное огнями отраженной люстры, хочется нырнуть, особенно, если много выпито, а при возвращении из Царского мало выпито не бывало.
Поедем в Царское село свободны, веселы и пьяны, таков гений места. Поездка в Царское пролегала по питейным заведениям, одним и тем же, хорошо проверенным – по дороге на вокзал, на Витебском и потом на пути от станции до парка, везде были рюмочные, они могли называться кафе-мороженым, главное, там наливали – где водку, где коньяк, где портвейн. Последнее заведение располагалось в воротах прямо при входе в Екатерининский парк, и в аллеи мы вкатывались уже на бровях, распахнутые в космос, там Холодная баня с Агатовыми комнатами, Руина и руины Китайской деревни, Геракл Фарнезский у Камероновой галереи и царскосельская статуя у воды, там Лицей и наш Агамемнон из пленного Парижа к нам примчался, и липы, липы, липы, и при звездах из тьмы ночной, как отблеск славного былого выходит купол золотой. Поездка в Царское всегда была вон из Брежнева, вон из 1976 года, вон из всего советского, беспросветного, и,
Ознакомительная версия. Доступно 15 страниц из 98