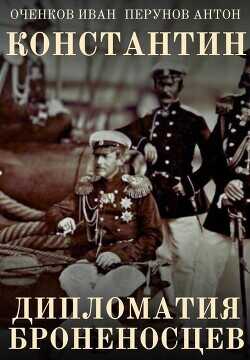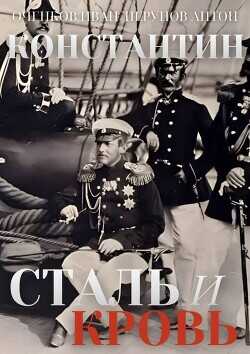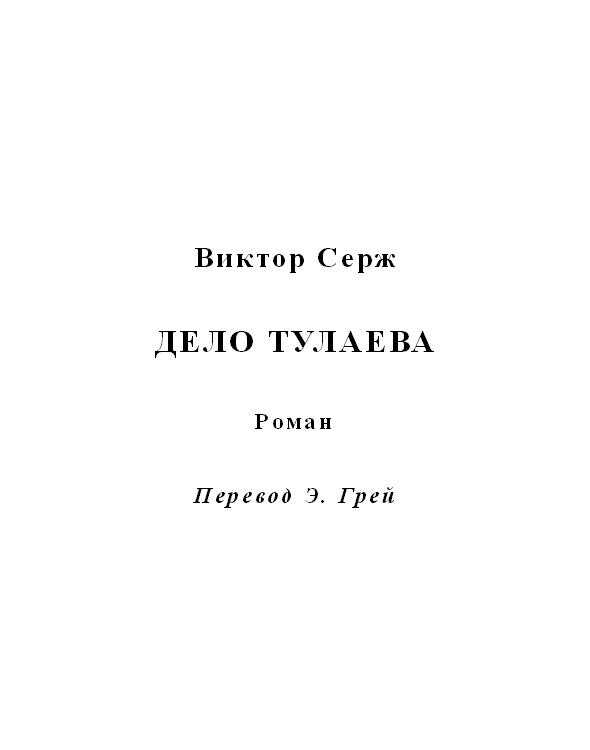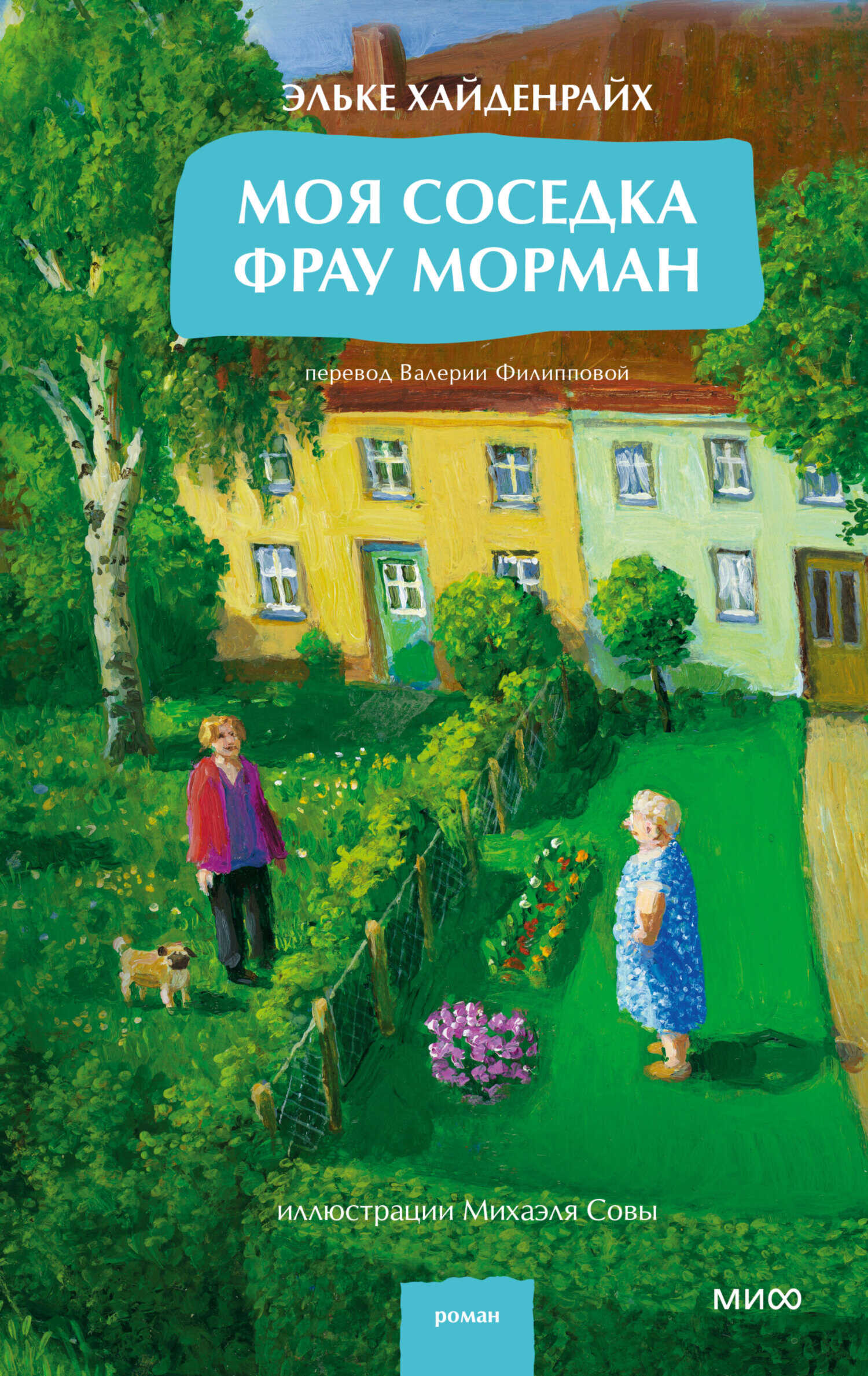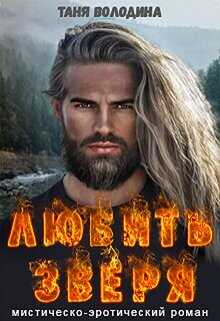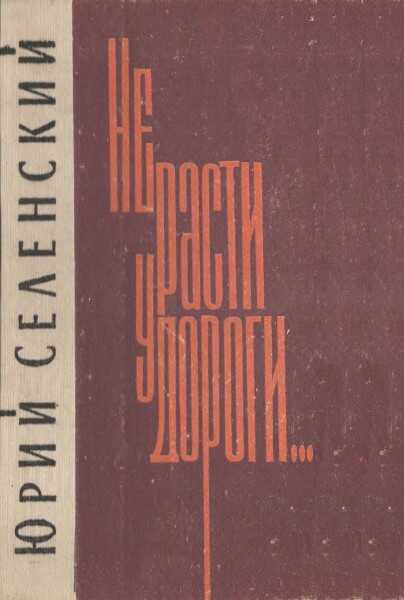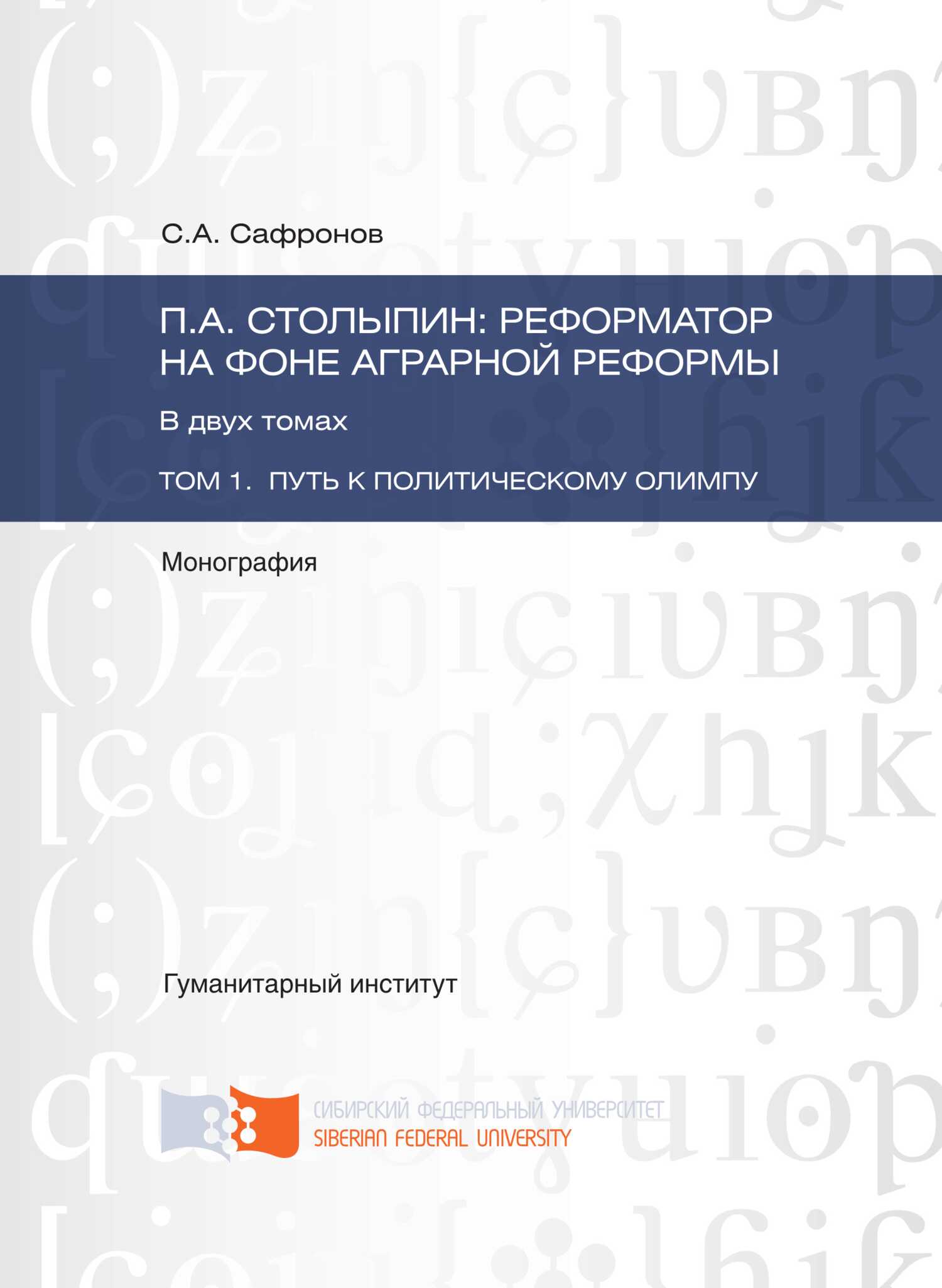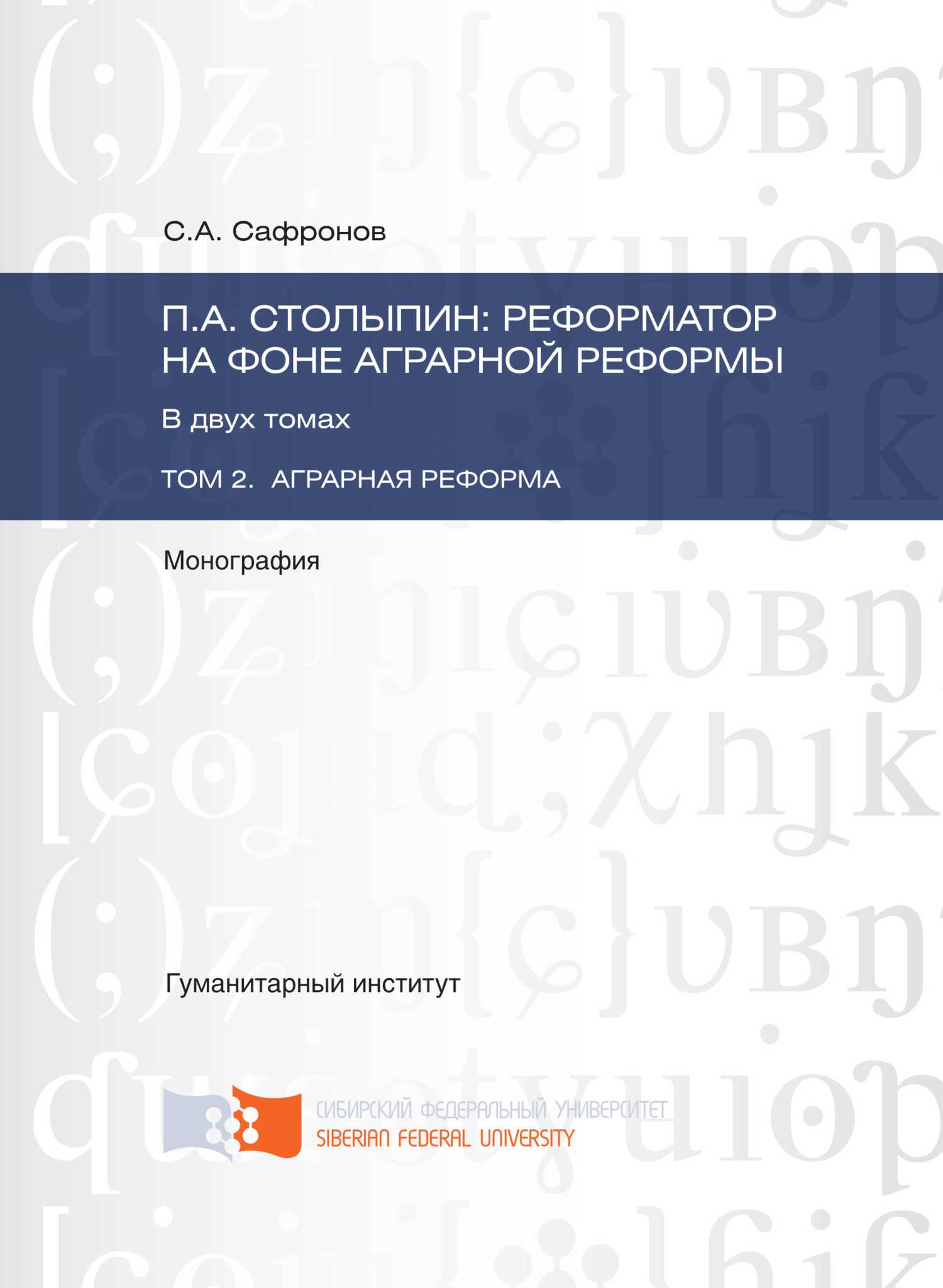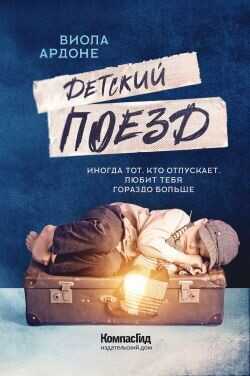Валерий Попов - Все мы не красавцы
Я жил в этих санаториях, ел, спал, гулял и никакой особенной жизни в них не хлебал…
Наконец в густых кустах я нашёл длинную сухую корягу, чёрную, обросшую серой бородой, рванул её со всех сил. Когда я пришёл, все стояли на корточках кружком и раздували огонь в бумаге.
— Молодец, — закричали все, — какую корягу принёс!
Мы разломали её, сложили, — разгорелось, стало видно пошире.
Палатки уже стояли туго натянутые, и Самсонов только похаживал между ними, постукивал топориком по колышкам. Потрясающий человек! Ведь никогда раньше палаток не ставил, это точно известно.
Потом тащили котёл с водой, тяжёлый, вода плещется. Повесили над огнём и выскребли в воду, как закипела, две банки тушёнки, — она невкусная казалась, с белым холодным жиром, а потом разварилась и оказалась такая душистая, и даже лавровый лист торчит и пахнет.
Уж как мы объелись этой похлёбкой, — красота! Расстегнули дверь у палатки, заползли еле-еле, голову на рюкзак. Руки, ноги — всё гудит. Но усталость какая-то сладкая, вроде давно хотелось так устать.
А закроешь глаза — то дорога, асфальт, то туман над канавой. Какой-то особый был день — так много всего.
Второй деньПроснулись на следующее утро рано. Дул холодный ветерок. Вставало красное солнце. Под горой была деревня. Мы спускались к ней по откосу. Зоя направилась в сельсовет отмечать путёвку, а мы шли по улице между тёмных деревянных домов. Встречали нас как-то странно. Старухи, сидевшие на завалинке, сразу оживились, показывали на нас пальцами, хихикали. Но это ещё ничего. Вдруг из-за дома выскочило пятеро парней, босых, нестриженых, голых по пояс, в длинных штанах, запрыгали, заорали.
— Эй, городские! В подштанниках! Городские!
Вот дураки! Вовсе это не подштанники, а брюки такие спортивные. Но те не унимались. Хватали землю и швыряли в нас со свистом. Слава шёл молча, видно, придумывал шутку, чтобы сразу их уесть. А Соминичи — те растерялись. Всегда и везде были первыми хулиганами, и вдруг их так обошли!
Мы пошли, свернули, а за сараем они нас и встретили. Четверо здоровых, загорелых, а один совсем маленький, с длинными белыми волосами, голубоглазый, а из носа у него всё что-то течёт прямо в рот. Но именно он вдруг и оказался самый умный.
— Здорово, — говорит, — может, в футбол?
— А что, — сказал Самсонов, — это мысль.
Мы пошли на луг, поставили ворота из обломков кирпичей.
Вдруг они зашептались между собой и показывают на Лубенца.
— Пусть он ботинки снимет. Он небось куётся. Почему-то приняли Гену за лучшего игрока. А Соминичи говорят:
— А мы в ботинках будем, и всё!
Уж они-то конечно! Для них главное удовольствие — коваться.
— Нет, — кричат местные, — босиком!
— Нет! В ботинках!
И тут опять маленький всех рассудил.
— Ну ладно, — говорит, — у кого есть босики, тот пусть играет босиком, а у кого нет, те в ботинках.
Самсонов сказал:
— Разуваемся!
И вот начали. И сразу ясно: совсем они и играть-то не умеют. А у нас — сплошные звёзды. Соминич один против всех водился минут двадцать, обошёл два дома, пруд, и всё же пробился к их воротам, и гол забил. И так мы им быстро вкатили семь шаров.
Они переполошились, кричат:
— Доната позвать, Доната! Замена!
Побежали, привели Доната, — огромный, чёрный, в спецовке замасленной, блестящей. Но, в общем-то, я не понял, что в нём такого. Не успел он себя показать, как им и десятый влетел. Только маленький не сдавался, всё кричал:
— Нечестно, выше рук!
Какое там выше рук. Собрались мы все в середине, стоим, дышим.
Посмотрел я на них, как они стоят, улыбаются, и вдруг понял, что и дразнили они нас, и кидались больше от стеснения, просто не знали, как иначе с нами познакомиться.
Маленький говорит:
— Ну ладно. Пошли, я вам кроликов покажу.
Стали обуваться. А пока мы бегали по лугу, в пылу атаки на ногах у каждого между пальцев нарвалось много цветов.
Показываем:
— Вот этот, бело-розовый, кто?
— Это клевер.
— А этот, лиловый?
— Колокольчик.
Тут я подскакал с поднятой ногой.
— Вот этот, алый?
— Не знаем. Видели, но не знаем.
Тогда я нагнулся, вынул этот цветок и положил его в карман, на память.
Потом привели нас в какой-то тёмный сарай, пахучий. Клетки стоят одна на другой, а в них кролики. Дышат часто, нос розовый, шевелится. Тычут им в сетку. Глаза вздрагивают.
Потом мы вышли и стоим. Ребята, видно, волнуются. Боятся, что нам у них не понравится. И не знают, чем бы нас ещё развлечь.
Вдруг Донат говорит:
— Может, сад какой обчистим?
— Это можно, — Соминичи оживились, — хорошо бы! Вот сад.
— Нет, — говорит Донат, — этот не годится. Пойдём. И повёл.
— Вот, — говорит, — этот.
Из кустов поднимается изгородь, а за ней, в зелени, клубника — тяжёлая, холодная, красная.
— Ну, — шепчет Донат, — только тихо. Ползком.
И мы залегли уже в полынь, чтобы ползти, как вдруг Лубенца дёрнуло спросить:
— А чей это сад?
Тут маленький вдруг вскочил, отбежал в сторону и оттуда говорит:
— А это его сад, Донатов.
Донат погнался за ним, но не догнал. Вернулся, запыхавшись. Слава взял его руку, пожал.
— Ну, — говорит, — спасибо. Только зачем же? Не стоит.
Третий деньНочевали мы в школе. Вышли рано утром, сели на скамейку. Друзей наших нет: понедельник, все на работе. Вот Донат пронёсся на тракторе, — грохот, всё вокруг трясётся.
А мы сидели и грызли семечки, что нам вчера ребята подарили. Дул ветер, и шелуха от семечек полого летела с губ, поворачиваясь то чёрным, то белым.
Вдруг подходит Зоя и ведёт с собой нашего маленького, голубоглазого.
— Вот, — говорит, — он дорогу дальше знает.
Поднялись, нацепили рюкзаки и пошли. В тёмный лес вошли, сырой, а скоро вообще болото зачавкало. Переходили его по тонким берёзовым брёвнам, называются ваги. Один переходит — все ждут. Отдохнём, где посуше, — и дальше. Целый день.
И вдруг вышли на свет. Огромная долина. А вдали поднимается гора, а на ней огромный белый монастырь с зелёными куполами.
— Вот она, — говорит Зоя, — наша старина. История наша.
Впервые за весь поход ожила.
Влезли мы в гору, друг за друга держась. Высокие ворота, окованные.
Нам проводник говорит:
— Вообще он закрыт. В нём редко кто бывает. Но я попрошу Анну Петровну, может, откроет.
И пошёл вниз. Где домик стоял.
И вдруг видим: пыль, пыль и старушка в белом платочке — бе-е-ежит!
Подбегает, и у неё в коробке от ботинок большой медный ключ.
Отперла.
Навалились все вместе, с трудом открыли. Со скрипом. Прошли толстую стену. И вышли во двор. Весь устлан белыми плитами, позванивают под ногами. И стоят под углом два длинных белых дома с узкими окошками под крышей.
— Здесь, — говорит Зоя, — монахи жили, вот в этом доме; под ним очень много тайников разных, погребов, подземных ходов, один подземный ход выходит за шесть километров отсюда, только сейчас он завален. А этот дом — трапезная. Здесь они ели.
Мы зашли в большой сумрачный зал с длинным деревянным столом.
— А что они ели?
— Вообще они ели всё. Ограничения были только раз в год. Вот лежит каменная доска, на ней высечено, что следует есть в пост.
Мы стёрли пыль. Долго разбирали старинные буквы. И прочли:
«Караси озёрные.
Белорыбица свежая.
Осетрина копчёная.
Икра чёрная.
Икра красная.
Хлеб пшеничный.
Мед липовый.
Мед цветочный.
Орехи в меду.
Сметана».
— Ничего себе пост! Что же они ели не в пост?
— Обратите внимание, — сказала Зоя Александровна, — как расположен монастырь: подойти к нему трудно, это не просто монастырь — это крепость. Не взяв его, враг не мог идти дальше. И смотрите ещё — сколько во дворе колодцев. Когда подходил враг, сюда стекались жители из соседних деревень — крестьяне, ремесленники. Надо, чтобы воды на всех хватило, — ещё неизвестно, сколько продлится осада. А вокруг болота, не подойти. Подъезд только по этой дамбе, видите? Сейчас она заросла ивами, а тогда была чистая. Про дамбу рассказывают такую историю.
Однажды утром ехал в монастырь царь, чтобы навести в нём свои порядки. А на крыше трапезной стоял маленький ехидный старикашка, настоятель монастыря, архимандрит Фотий. И когда экипаж домчался до поворота, — видите поворот? — Фотий махнул рукой, и ударили все колокола враз, чего раньше не было никогда. Звон! Удар! Ушам больно. Царские лошади от испуга шлёпнулись под откос, в болото, и туда же вместе с каретой полетел и царь. Вылез, снял тину с усов, погрозил кулаком и уехал.
— Неплохо, — сказали Соминичи.
— Но главное, — Зоя разговорилась, раскраснелась, — видели, какие стены толстые? Это же не просто так. Эти стены не брал никакой таран.